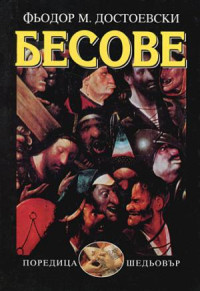Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)
- Превод от руски
- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,8 (× 47 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- automation (2011 г.)
- Допълнителна корекция
- NomaD (2011 г.)
Издание:
Фьодор Достоевски. Бесове
Превод от руски: Венцел Райчев
Редактор: Иван Гранитски
Художник: Петър Добрев
Коректор: Валерия Симеонова
На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош
Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5
Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.
Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“
„Абагар“ АД — Велико Търново
ISBN: 954-9559-04-1
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Година
- 1870–1871 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 6 (× 1 глас)
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990
История
- — Добавяне
Част втора
Глава първа
Нощта
I
Минаха осем дни. Сега, когато всичко вече е минало и пиша тази хроника, всеки знае каква е цялата работа; но тогава нищо още не се знаеше и естествено, че много неща ни се виждаха странни. Във всеки случай ние със Степан Трофимович на първо време се бяхме затворили и със страх наблюдавахме отдалеч. Аз все пак походвах тук-там и както преди, му носех разни вести, без което той не можеше да диша.
Не ще и дума, по града бяха плъзнали какви ли не слухове, тоест относно плесницата, припадъка на Лизавета Николаевна и останалото, дето се бе случило онази неделя. Едно се чудехме: от кого беше излязло всичко това, хем толкова бързо и точно. Никое от присъстващите тогава лица като да нямаше нито нуждата, нито пък изгодата да нарушава тайната на станалото. Слуги тогава нямаше, единствен Лебядкин би могъл да изплещи нещо не толкова от злоба, защото си бе излязъл крайно уплашен (а страхът от врага унищожава и злобата към него), а единствено поради невъздържаност. Но Лебядкин още на другия ден беше безследно изчезнал заедно със сестричката си; в къщата на Филипов го нямаше, преместил се беше неизвестно къде и сякаш бе потънал в земята. Шатов, когото исках да питам за Маря Тимофеевна, се беше затворил в стаята си и май не бе мръдвал оттам тия осем дни, прекъсвайки дори занятията си в града. Мен не ме прие. Рекох да намина у него във вторник и почуках на вратата. Отговор не получих, но тъй като по всичко личеше, че си е у дома, почуках втори път. Тогава той, скачайки, види се, от кревата, дойде с големи крачки до вратата и с цяло гърло викна: „Шатов го няма вкъщи.“ Тъй си и отидох.
Окуражавайки се взаимно и не без страх от смелостта на собственото си предположение, ние със Степан Трофимович решихме накрая, че единственият виновник за плъзналите слухове може да бъде само Пьотър Степанович въпреки твърденията му (в разговор с баща си), че нямал пръст в тая работа и самият той се чудел откъде е излязло, защото всички — и в клуба, и губернаторшата и мъжът й, знаели цялата история до най-големите подробности. И още нещо за отбелязване: на другия ден, в понеделник вечерта, срещнах Липутин, който вече знаеше всичко до последната дума, научил бе, значи, от първа ръка.
Много от дамите (и то от най-светските) любопитстваха и относно „загадъчната куца“ — тъй наричаха Маря Тимофеевна. Намериха се дори желаещи непременно лично да я видят и да се запознаят, тъй че господата, които бяха избързали да укрият Лебядкини, очевидно бяха постъпили уместно. Но на пръв план все пак излизаше припадъкът на Лизавета Николаевна и от това се интересуваше „цялото висше общество“, та макар и само за това, че работата пряко засягаше Юлия Михайловна като роднина на Лизавета Николаевна и нейна покровителка. Какви ли само не ги брътвеха! За брътвежите способстваше и тайнствеността на обстановката: и двете къщи бяха затворени на ключ; Лизавета Николаевна, както казваха, имала треска; същото твърдяха за Николай Всеволодович, при това с отвратителни подробности за някакъв избит уж зъб и за синини по лицето. Шушукаха дори по кьошетата, че ни чака може би убийство, че Ставрогин не бил тоя, дето щял да понесе такава обида, и щял да убие Шатов, но тайнствено като в корсиканска вендета. Тази мисъл се нравеше; но по-голямата част от нашата светска младеж слушаше всичко това с презрение и с вид на най-пренебрежително равнодушие, разбира се, престорено. Изобщо отколешната враждебност на нашето общество спрямо Николай Всеволодович ярко се прояви. Стремяха се да го обвинят дори солидни хора, макар и самите те да не знаеха в какво. Шушукаше се, че бил уж погубил честта на Лизавета Николаевна и че в Швейцария имали нещо помежду си. Разбира се, предпазливите хора се въздържаха, обаче всички слушаха с охота. Говореха се и други неща, но не на всеослушание, а в частни разговори, рядко и почти на четири очи, при това извънредно странни, и относно тяхното съществуване споменавам само за предупреждение на читателите единствено с оглед на по-нататъшните събития в моя разказ. А именно: някои, мръщейки вежди и един господ знае на какво основание, казваха, че Николай Всеволодович имал някаква особена мисия в нашата губерния, че чрез граф К. бил установил в Петербург връзки с много големи хора и че бил дори на служба и едва ли не натоварен от горе с някакви поръчения. Когато някои твърде солидни и сериозни хора се усмихваха на тоя слух, благоразумно изтъквайки, че човек, забъркан в скандали и започващ със синини, не прилича на чиновник, шепнешком им изтъкваха, че той служел не, да речеш, официално, а, тъй да се каже, конфиденциално, и че в този случай самата служба го изисквала служещият колкото може по-малко да прилича на чиновник. Подобни доводи имаха ефект; знаеше се, че в столицата не гледат на земството в нашата губерния с много добро око[1]. Повтарям, тези слухове изплуваха само за известно време при появяването на Николай Всеволодович и безследно изчезнаха, но ще отбележа, че причина за много от слуховете бяха донейде няколкото кратки, но злобни думи, неясно и отривисто произнесени в клуба на неотдавна завърналия се от Петербург гвардейски капитан в оставка Артемий Павлович Гаганов, един от твърде едрите помешчици в губернията и уезда, столичен светски човек и син на покойния Павел Павлович Гаганов, същият онзи почтен старейшина, с когото Николай Всеволодович бе имал преди повече от четири години необикновения по своята грубост и неочакваност сблъсък, за който вече споменах по-преди, в началото на моя разказ.
Всички тутакси бяха научили, че Юлия Михайловна направила на Варвара Петровна извънредна визита и че на входа й било съобщено, че „поради неразположение не могат я прие“. Освен това два дни след тая си визита Юлия Михайловна пращала нарочен човек да пита за здравето на Варвара Петровна. Най-сетне тя навред бе започнала да „защитава“ Варвара Петровна, разбира се, само в най-висшия смисъл, тоест по възможност най-неопределено. Всички първоначални прибързани намеци за неделната история изслушвала строго и хладно, тъй че през следващите дни вече не ги подновяваха в нейно присъствие. Така навред се затвърди мнението, че Юлия Михайловна не само знае цялата тази тайнствена история, но знае и целия й тайнствен смисъл до най-малките подробности, и то не като странично лице, а като съучастница. Ще кажа впрочем, че малко по малко тя бе вече почнала да придобива у нас онова голямо влияние, за което жадуваше и към което тъй несъмнено се домогваше, и вече се виждаше „заобиколена“. Част от обществото й призна, че има практически ум и такт… но за това после. С нейното покровителство се обясняваха отчасти и твърде бързите успехи на Пьотър Степанович в нашето общество — успехи, които особено бяха поразили тогава Степан Трофимович.
Ние с него може би и преувеличавахме. Първо, Пьотър Степанович още в първите четири дни след появяването си почти моментално се изпозапозна с целия град. Появил се беше в неделя, а във вторник вече го срещнах в една каляска с Артемий Павлович Гаганов, човек горд, раздразнителен и нафукан въпреки цялото си светско държане — с когото поради характера му беше доста трудно да се спогодиш. Пьотър Степанович бе приет прекрасно и у губернатора, та чак дотам, че тутакси зае положението на близък или, тъй да се каже, желан млад човек; той обядваше у Юлия Михайловна почти ежедневно. С нея се бе запознал още в Швейцария, но в бързия му успех в дома на негово превъзходителство наистина имаше нещо любопитно. Все пак нали навремето минаваше за революционер емигрант, истина или не, в странство бе участвал в някакви издания и конгреси, „което може от вестниците да се докаже“, както злобно се изрази пред мен при една среща Альоша Телятников, сега, уви, уволнено чиновниче, а доскоро също желан млад човек в дома на стария губернатор. Тук имаше обаче един такъв факт: бившият революционер се бе завърнал в любезното си отечество не само без всякакви неприятности, но едва ли не с поощрения; ще рече, може и нищо да не е имало. Липутин ми беше пошушнал веднъж, че според слуховете Пьотър Степанович бил се покаял някъде, назовал няколко други имена, обещал и занапред да бъде полезен на отечеството и може би по тоя начин загладил вината си и получил опрощение. Предадох тази злобна фраза на Степан Трофимович и той, въпреки че почти не бе в състояние да разсъждава, здравата се замисли. Впоследствие се разбра, че Пьотър Степанович е пристигнал с превъзходни препоръчителни писма, във всеки случай донесъл бе такова на губернаторшата от едно извънредно високопоставено петербургско бабе, чийто мъж бе един от най-високопоставените петербургски старчоци. Това бабе, кръстница на Юлия Михайловна, споменаваше в писмото си, че и граф К. добре познавал Пьотър Степанович чрез Николай Всеволодович, приел го ласкаво и го намирал „достоен млад човек, независимо от бившите му заблуждения“. Юлия Михайловна донемайкъде ценеше оскъдните си и с такъв труд поддържани връзки с „висшето общество“, и то се знае, зарадвала се беше на писмото на високопоставеното бабе; но все пак тук имаше и нещо по-особено. Тя беше поставила дори съпруга си в почти фамилиарни отношения с Пьотър Степанович, тъй че господин Лембке се бе оплаквал… но за това после. Ще отбележа само за напомняне, че и великият писател се бе отнесъл към Пьотър Степанович твърде благосклонно и тутакси го бе поканил у дома си. Такава прибързаност от страна на един толкова зает със себе си човек уязви Степан Трофимович повече от всичко друго; но аз си го обясних инак: прикотквайки нихилиста, господин Кармазинов е имал предвид, разбира се, връзките му с прогресивната младеж от двете столици. Великият писател просто трепереше пред най-новата революционна младеж и въобразявайки си поради своето незнание, че тя държи в ръцете си ключа на руското бъдеще, унизително й се подмазваше главно защото тя не му обръщаше никакво внимание.
II
Пьотър Степанович се бе отбивал на два пъти у своя родител и за нещастие и двата пъти в мое отсъствие. Първия път го бе посетил в сряда, тоест чак на четвъртия ден след онази им първа среща, при това по работа. Между впрочем сметките им по имението бяха приключили някак тихомълком. Варвара Петровна беше поела всичко и всичко изплати, прибирайки, разбира се, земицата, а Степан Трофимович бе само уведомен, че всичко е свършено, и пълномощникът на Варвара Петровна, камердинерът й Алексей Егорович, му донесе да подпише нещо, което той направи мълчаливо и с изключително достойнство. По повод на достойнството ще отбележа, че през тия дни аз просто не можех да позная нашето предишно старче. Държеше се както никога досега, стана удивително мълчалив, дори от оная неделя насам не писа нито веднъж на Варвара Петровна, което бих нарекъл чудо, а главното, стана спокоен. Спрял се бе на някаква окончателна и необикновена идея, която му вдъхваше спокойствие, личеше си. Заловил се бе за тази идея, седеше и изчакваше нещо. Отначало впрочем се разболя, особено в понеделника; пак холерина. Както винаги, беше жаден за новини; стигаше обаче малко да се отклоня от фактите, да премина към същността на работата и да изкажа някакви предположения, тутакси започваше да ми маха с ръце да престана. Но все пак двете срещи със синчето му бяха подействали болезнено, макар и да не го поколебаха. И двата тия дни, след срещите, лежа на дивана с оцетни кърпи на главата, но в онзи, високия смисъл продължаваше да запазва спокойствие.
Понякога впрочем и не ми махаше с ръце. И ми се струваше понякога, че тайнствената решителност, която си беше наложил, го напускаше и че започваше да се бори с някакъв нов съблазнителен наплив от идеи. Това бяха мигове, но ги отбелязвам. Подозирах, че много му се искаше отново да излезе на арената и напускайки уединението, да започне борба, да даде последен бой.
— Cher, аз бих ги разгромил! — изригна той в четвъртък вечерта, след втората си среща с Пьотър Степанович, когато лежеше изтегнат на дивана с навит на главата пешкир.
До този момент през целия ден не си бяхме разменили нито дума.
— „Fils, fils chéri“[2] и така нататък, съгласен съм, че всички тия изрази са глупост, слугински речник, карай, самият аз го виждам. Не съм го нито хранил, нито поил, отпратил съм го от Берлин в …-ската губерния още като сукалче по пощата и така нататък, съгласен съм… „Ти, казва, не си ме поил и по пощата си ме препратил, че и тук ме ограби.“ Но, нещастнико, викам му аз, цял живот съм те мислил, та макар и по пощата! Il rit[3]. Но аз съм съгласен, съгласен съм… нека да е по пощата — завърши той, като да бълнуваше.
— Passons[4] — почна той отново след пет минути. — Не го разбирам Тургенев. Тоя негов Базаров е някакво фиктивно лице, което изобщо не съществува; че те първи го отхвърлиха тогава като нещо, което на нищо не прилича. Този Базаров е някаква мътна смесица от Ноздрев и Байрон[5], c’est le mot[6]. Погледнете ги внимателно: премятат се презглава и квичат от радост като кутрета на слънце, те са щастливи, победители са! Какъв ти Байрон!… И каква делничност при това! Какво раздразнено слугинско самолюбие, какъв просташки ламтеж faire du bruit autour de son nom[7], не забелязвайки, че son nom… О, карикатура! Ама чакай, моля ти се, викам, ти наистина ли искаш да предложиш на хората вместо Христос себе си, тъй както се гледаш. Il rit. Il rit beacoup. Il rit trop[8]. Той има някаква странна усмивка. Майка му я нямаше тая усмивка. Il rit toujours[9].
Отново настъпи мълчание.
— Те са хитри; в неделя се бяха наговорили… — изтърси той внезапно.
— О, без съмнение — викнах аз, изостряйки уши, — всичко това бе нагласено и съшито с бели конци и тъй зле разиграно.
— Аз не за това. Известно ли ви е, че всичко това бе съшито с бели конци нарочно, за да го забележат онези… които трябва? Разбирате ли го?
— Не, не разбирам.
— Tant mieux. Passons[10]. Много съм нервен днес.
— Защо сте седнали да спорите с него, Степан Трофимович? — упрекнах го аз.
— Je voulais convertir[11]. Смешно ви е, разбира се. Cette pauvre леля, elle entendra de belles choses![12] О, друже мой, ще ми повярвате ли, че одеве се почувствах патриот! Впрочем аз винаги съм се чувствал руснак… да, истинският руснак и не може да бъде друг, освен каквито сме ние с вас. Il y a là dedans quelque chose d’aveugle et de louche[13].
— Сигурно — отговорих аз.
— Друже мой, правдата, истинската правда винаги е неправдоподобна, знаете ли това? За да стане правдата правдоподобна, непременно трябва да й се притури малко лъжа. Хората винаги са постъпвали така. Може би тук има нещо, което ние не разбираме. Как мислите, има ли тук в това победоносно врещене нещо, което да не разбираме? Бих искал да има. Бих искал.
Аз не отговорих. Той също дълго мълча.
— Казват — френски ум… — разбърза се той внезапно, сякаш в треска — лъжа, винаги е било така. Защо да клеветим френския ум? Това е просто руски мързел, нашето унизително безсилие да родим идея, нашият отвратителен паразитизъм сред другите народи. Il sont tout simplement des paresseux[14], а не френският ум. О, за благото на човечеството русите трябва да бъдат изтребени като вредни паразити! Не, не бяха, не бяха такива нашите стремежи; аз не разбирам нищо. Престанах да разбирам! Ти разбираш ли, викам му аз, разбираш ли, че ако изкарвате на първи план и с такъв възторг гилотината, това е единствено защото да режеш глави е най-лесното, а да имаш идея е най-трудното нещо! Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance[15]. Тия каруци или как беше там — трополенето на каруците, които возят хляб на човечеството, е по-полезно от Сикстинската мадона[16], или как го казваха те… une bêtise dans ce genre[17]. Ти разбираш ли, викам му аз, разбираш ли, че освен от щастие човекът по същия начин и точно толкова се нуждае и от нещастие! Il rit. Ти, казва, пущаш разни „бон мо, клатейки си краката (той се изрази по-грубо) на мекия диван…“ И погледнете тоя ни обичай — баща и син да си говорят на ти: то хубаво, когато са добре, ами като се карат?
Пак помълчахме около минута.
— Cher — заключи той внезапно, понадигайки се бързо, — знаете ли, всичко това непременно ще свърши с нещо.
— Иска ли питане — казах аз.
— Vous ne comprenez pas. Passons[18]. Но… обикновено всичко на тоя свят свършва с едно нищо, но тук ще има нещо, непременно, непременно!
Стана, разходи се из стаята, обзет от извънредно силно вълнение, и като стигна пак до дивана, безсилно се тръшна на него.
В петък сутринта Пьотър Степанович замина нанякъде в уезда и отсъства до понеделника. За заминаването му научих от Липутин и пак от него — дойде някак на дума — узнах, че Лебядкини, братчето и сестричето, и двамцата били нейде отвъд реката, в Горошечное. „Нали аз ги прекарах през реката“ — прибави Липутин и оставяйки Лебядкини, внезапно съобщи, че Лизавета Николаевна се омъжвала за Маврикий Николаевич и че макар да не било обявено, но годежът станал и работата е свършена. На другия ден аз срещнах Лизавета Николаевна да язди, придружена от Маврикий Николаевич, излязла беше за първи път след боледуването. Стрелна ме отдалеч с поглед, засмя се и много приятелски ми кимна. Всичко това го съобщих на Степан Трофимович; той обърна известно внимание само на вестта за Лебядкини.
А сега, след като описах нашето загадъчно положение в продължение на тези осем дни, когато още нищо не знаехме, пристъпвам към следващите събития от моята хроника и вече, тъй да се каже, с познаване на въпроса, в оня вид, както всичко се разкри и обясни сега. Започвам именно от осмия ден след онази неделя, тоест от понеделник вечер, защото всъщност тъкмо от тази вечер и започна „новата история“.
III
Беше седем часът вечерта, Николай Всеволодович седеше самичък в кабинета си — стаята, която той открай време обичаше, висока, постлана с килими, подредена с малко тежки, по едновремешния фасон мебели. Седеше на дивана в ъгъла, облечен беше като за излизане, но, изглежда, не се канеше да излиза. На масата пред него имаше лампа с абажур. Краищата и ъглите на голямата стая оставаха в сянка. Погледът му бе замислен и съсредоточен, не съвсем спокоен; лицето уморено и малко отслабнало. Страната му наистина бе отекла, но слуховете за избития зъб бяха преувеличени. Само се беше разклатил, но сега вече пак заякна, и горната му устна беше разсечена отвътре, но и това заздравя. А отокът не спадаше вече цяла седмица само защото болният не беше дал да се викне докторът и своевременно да се разреже гнойникът, а чакаше гнойта сама да пробие. Той не само доктора, но и майка си едва пускаше да го види, и то само за минутка, веднъж дневно, и то само привечер, като се стъмваше, а лампите още не бяха запалени. Не приемаше също така и Пьотър Степанович, който, докато беше в града, по два-три пъти на ден се отбиваше у Варвара Петровна. И ето че в понеделник привечер завърналият се още сутринта след тридневно отсъствие Пьотър Степанович, след като обиколи целия град и обядва у Юлия Михайловна, най-сетне се яви при очакващата го с нетърпение Варвара Петровна. Забраната бе вдигната. Николай Всеволодович приемаше. Варвара Петровна лично отведе госта до вратата на кабинета; тя отдавна искаше те да се срещнат, а Пьотър Степанович й даде дума, като свършат с Nicolas, да се отбие при нея и да й разкаже. Тя плахо почука на вратата на Николай Всеволодович и не получавайки отговор, се осмели да я открехне на една педя.
— Nicolas, може ли да поканя при теб Пьотър Степанович? — тихо и сдържано попита тя, мъчейки се да разгледа Николай Всеволодович зад лампата.
— Може, може, разбира се, че може! — високо и весело викна самият Пьотър Степанович, собственоръчно отвори вратата и влезе.
Николай Всеволодович не бе чул почукването на вратата, а само плахия въпрос на майка си, но не успя да му отговори. В момента той дълбоко се беше замислил над писмото, което току-що бе прочел. Чувайки гласа на Пьотър Степанович, той трепна и бързо прикри писмото с попивателницата, която му беше подръка, но това не му се удаде напълно; крайчецът на писмото и почти целият плик стърчаха навън.
— Нарочно извиках с всички сили, за да успеете да се приготвите — припряно и с една учудваща наивност прошепна Пьотър Степанович, подтичвайки почти към масата и моментално се вторачи в попивателницата и крайчеца на писмото.
— И, разбира се, успяхте да съзрете, че крия от вас под попивателницата току-що полученото писмо — спокойно каза Николай Всеволодович, без да помръдне от мястото си.
— Писмо ли? Притрябвало ми е вашето писмо — възкликна гостът, — но… главното — отново зашепна той, обръщайки се към вече затворената врата и кимайки нататък.
— Тя никога не подслушва — хладно забеляза Николай Всеволодович.
— Дори и да подслушваше! — моментално поде Пьотър Степанович, весело повишавайки глас и сядайки на креслото. — Аз нямам нищо против, само че сега дотърчах да си поговорим насаме… Е, най-после да се добера до вас! Как сте със здравето преди всичко? Виждам, че прекрасно, утре може би ще дойдете, а?
— Може би.
— Облекчете ги най-после, облекчете и мен! — буйно размаха той ръце с шеговит и приятен израз. — Да знаехте само какво трябваше да им издрънкам, принуден бях. Ама вие впрочем знаете — той се засмя.
— Не знам всичко. Чух само от майка си, че много сте се… движили.
— Тоест нищо определено — скочи внезапно Пьотър Степанович, сякаш защитавайки се от ужасно нападение, — пуснах, знаете, в ход жената на Шатов, тоест слухове за вашите връзки в Париж, което и обяснява, разбира се, неделния случай… нали не се сърдите?
— Убеден съм, че много сте се старали.
— Аз, знаете, само от това се боях. А впрочем какво значи това „много сте се старали“? Та това е упрек. Впрочем вие поставяте нещата направо, аз, като идвах насам, тъкмо от това се боях, че няма да искате да поставите нещата направо.
— Аз и не искам нищо да поставям направо — каза малко раздразнено Николай Всеволодович, но тутакси се усмихна.
— Аз не за онова, не за онова, ще сгрешите, не за онова! — замаха с ръце Пьотър Степанович, сипейки думите като бобени зърна и явно зарадван от нервността на домакина. — Няма да ви дразня с нашето дело, особено пък в сегашното ви положение. Исках само относно неделния случай, и то в най-необходимите граници, защото иначе не може наистина. Идвам за най-открито обяснение, от което се нуждая главно аз, а не вие — казвам го заради вашето самолюбие, но същевременно е истина. Дойдох, за да бъда отсега нататък винаги откровен.
— Ще рече, досега не сте били откровен?
— И вие добре го знаете. Неведнъж съм хитрувал… усмихвате се, много се радвам на тая усмивка като предлог за обяснение; че нали нарочно предизвиках усмивката ви с хвалбата си, че съм бил хитрувал, та моментално да се разсърдите: как съм посмял да си помисля, че мога да ви изхитря, а аз тутакси да ви дам обясненията си. Виждате ли, виждате ли какъв откровен съм станал! Е, ще благоволите ли да ме изслушате?
В израза на Николай Всеволодович, презрително спокоен и дори насмешлив, въпреки цялото очевидно желание на госта да нервира домакина с нахалството на предварително подготвените си и преднамерено груби наивности, най-сетне се появи известно тревожно любопитство.
— Чуйте ме — още повече се засуети Пьотър Степанович. — Тръгвайки преди десет дни за насам, тоест въобще за насам, за този град, аз, разбира се, реших да играя роля. Най-хубаво би било съвсем без роля, със собственото си аз, не е ли тъй? Няма нищо по-хитро от собственото аз, защото никой няма да повярва. Да си призная, исках да се направя на ахмак, защото е по-лесно от собственото аз, но тъй като ахмак е все пак крайност, а крайностите възбуждат любопитство, окончателно се спрях на собственото аз. Е, а какво е собственото ми аз? Златната среда: нито глупав, нито умен, доста посредствен и сякаш от небето паднал, както казват тук благоразумните хора, не е ли тъй?
— Какво пък, може и тъй да е — поусмихна се Николай Всеволодович.
— А, съгласен сте, значи — много се радвам; сигурен бях, че го мислите… Нищо, нищо, не ви се сърдя и не ви се препоръчах по тоя начин, за да предизвикам в отговор похвалите ви: „Ама, моля ви се, как ще сте посредствен, ама моля ви се, вие сте умен…“ А-а, пак се усмихвате!… Пак се хванах. Не бихте казали: „Вие сте умен“, да допуснем де; аз всичко допускам.
Passons, както казва моят старец, и, в скобки, не се сърдете за многословието ми. Тъкмо пример впрочем: винаги много говоря, тоест с много думи, и бързам, и винаги нищо не се получава. А защо говоря с много думи и нищо не се получава? Защото не умея да говоря. Онези, които умеят да говорят, говорят кратко. Ето, значи, че съм посредствен — не е ли тъй? Но тъй като тоя ми дар, тая моя посредственост си ми е естествена, защо да не я използвам изкуствено? И аз я използвам. Вярно, стягайки се за насам, отначало помислювах да си мълча; но мълчанието е голям талант и, ще рече, не ми приляга, а, второ, да се мълчи, е все пак опасно; е, и реших окончателно, значи, че по-добре да говоря, но именно посредствено, тоест много, много, много, и страшно да бързам да докажа нещо, и накрая винаги да се оплитам в собствените си доказателства, тъй че слушателят само да се пули и да се оттегли, вдигайки рамене или, още по-добре, заплювайки те. Получава се, първо, че си го уверил в своето простодушие, че си му омръзнал донемайкъде и че не са те разбрали — тройна полза. Кой, моля ви се, ще те заподозре след това в тайни кроежи? Ами че всеки от тях ще го вземе за лична обида, ако му кажат, че кроя нещо тайно. А освен това понякога взема, че ги разсмея — а то е вече ценно. Че те сега всичко ще ми простят, та макар за това, дето мъдрецът, който е издавал там прокламации, изведнъж се оказва по-глупав от самите тях, не е ли тъй? По усмивката ви виждам, че одобрявате.
Николай Всеволодович впрочем ни най-малко не се усмихваше, а наопаки, слушаше намръщено и малко нетърпеливо.
— А? Какво? Май казахте „все едно“? — зацвърча Пьотър Степанович (Николай Всеволодович нищо не беше казал). — Разбира се, разбира се; уверявам ви, че съвсем не е, за да ви компрометирам с приятелството си. Ама знаете ли, че днес сте ужасно наострен; говоря ви от душа и сърце и вие за всяка думица ми връзвате кусур; уверявам ви, че днес няма да повдигам щекотливи въпроси, честна дума, и предварително съм съгласен с всичките ви условия.
Николай Всеволодович упорито мълчеше.
— А? Какво? Казахте ли нещо? Виждам, виждам, че май пак изтърсих глупост; не сте ми предлагали условия и няма да предложите, вярвам, вярвам, хайде, успокойте се; знам си го, кой съм аз, че да ми предлагате, тъй ли е? Недейте, аз сам ще си отговоря — и то се знае, поради моята посредственост; посредственост и това си е… Смешно ли ви е? А? Какво?
— Нищо — засмя се най-сетне Николай Всеволодович, — дойде ми наум, че веднъж действително ви нарекох посредствен, но вас тогава ви нямаше, значи предали са ви го… Бих ви помолил по-бързо да пристъпите към въпроса.
— Че аз тъкмо на въпроса, аз именно по повод на неделята! — разцвърча се Пьотър Степанович. — Кой, кой бях аз в неделя, какво ще кажете? Именно една прибързана, средна посредственост и по най-посредствен начин насила взех всичко в ръцете си. Но всички ми го простиха, защото съм сякаш паднал от небето, това, първо, и изглежда, всички вече са го решили; а, второ, защото разказах една малка историйка и измъкнах всички ви сухи от водата, тъй ли е, тъй ли е?
— Тоест разказахте я точно тъй, че да остане съмнение и да проличи, че сме се наговорили и всичко е скалъпено, докато всъщност не сме се наговаряли и аз абсолютно нищо не съм искал от вас.
— Именно, именно! — сякаш дори възторжено поде Пьотър Степанович. — Именно тъй го правех, че да забележите цялата тази пружина; че нали главно заради вас беше цялото ми това кълчене, защото исках да ви туря натясно и компрометирам. Главното, исках да разбера до каква степен ви е страх.
— Интересно, защо сте толкова откровен сега?
— Не се ядосвайте, не се ядосвайте, не святкайте с очи… Вие впрочем не святкате. Интересно ви е защо съм толкова откровен? Ами че именно защото сега всичко се промени, свърши, мина и замина. Аз внезапно промених намеренията си относно вас. Край на стария път, окончателно; сега вече никога няма да ви компрометирам по стария начин, сега по нов начин.
— Сменили сте тактиката?
— Тактика няма. Сега всичко зависи само от вас, сиреч ако искате, ще кажете да, ако искате — не. Това е новата ми тактика. А по нашето дело — зъб не обелвам, докато вие не наредите. Смешно ли ви е? Карайте. И на мен ми е смешно. Но аз — сериозно, сериозно, сериозно, макар тоя, дето толкова бърза, разбира се, е посредственост, нали тъй? Все едно, нека да съм посредственост, ама аз — сериозно, сериозно.
Той действително изрече това „сериозно“ със съвсем друг тон и с някакво особено вълнение, тъй че Николай Всеволодович го погледна с интерес.
— Казвате, че сте променили намеренията си относно мен? — попита той.
— Промених намеренията си относно вас в момента, когато след случая с Шатов прибрахте ръцете си отзад, и стига, стига вече, моля ви, без въпроси, нищо повече няма да ви кажа сега.
Той уж скочи, размахвайки ръце, сякаш отпъждаше въпросите; но тъй като въпроси нямаше, а нямаше защо и да си върви, отново се тръшна в креслото, донейде успокоен.
— Между впрочем, в скоби казано — зацърцори той тутакси, — тук някои дрънкат, че сте щели да го убивате, и на бас се хващат, тъй че Лембке мислеше дори да вдигне полицията, но Юлия Михайловна забрани… но стига, стига за това, аз просто тъй, да го знаете. Впрочем и друго: още същия ден преместих Лебядкини, вие знаете; получихте ли бележката ми с адреса им?
— Получих я още тогава.
— Това вече не поради „посредственост“, това е искрено, от готовност. Може и да излиза посредствено, но затова пък е искрено.
— Да, добре, може би тъй и трябваше… — замислено промълви Николай Всеволодович. — Но повече никакви бележки, не ми ги пращайте, моля ви.
— Невъзможно беше, само този път.
— Значи Липутин знае?
— Невъзможно беше; но нали знаете, Липутин не смее да… Между впрочем би трябвало да отидем при нашите, тоест не при нашите, а при тях, защото пак ще се хванете за думата. Ама не се притеснявайте, не сега, някой друг път. Сега вали. Ще ги предупредя да се съберат някоя вечер. Умират от нетърпение, като гарджета са зинали — какъв ли подарък им носим? Запален народ. Наизвадили са разни книжлета, готвят се да спорят. Виргински е общочовек, Липутин — фуриерист с голяма склонност към полицейщина; той е човек, да ви кажа ли, ценен в едно отношение, но във всички останали трябва да се държи изкъсо; и накрая онзи дългоухият, той ще прочете собствената си система. И знаете ли, докачени са от пренебрежението ми и задето ги поливам със студена вода, ха-ха! А непременно трябва да се иде.
— Вие сте ме представили за някакъв шеф, нали? — колкото се може по-небрежно каза Николай Всеволодович. Пьотър Степанович му хвърли бърз поглед.
— Впрочем — поде той, сякаш не бе го чул и бързайки да подмине — аз по два и по три пъти се отбивах при многоуважаемата Варвара Петровна и също бях принуден много да говоря.
— Представям си.
— Не, не си представяйте, просто съм казвал, че няма да убивате и прочие сладки приказки. И представете си: тя още на другия ден знаеше, че съм прехвърлил Маря Тимофеевна отвъд реката; вие ли й казахте?
— Не съм помислил.
— Знаех си, че не сте вие. Но кой освен вас би могъл? Интересно.
— Липутин, разбира се.
— Н-не, не е Липутин — промърмори, мръщейки се, Пьотър Степанович, — знам кой е. Прилича да е Шатов… Впрочем глупости, да оставим това! Макар че е страшно важно… Между впрочем аз все очаквах майка ви внезапно да ми тресне главния въпрос… Ах, да, отначало, през всичките тия дни, беше ужасно мрачна и внезапно, като пристигнах днеска, гледам, че цялата сияе. Какво ли означава това?
— Означава, че днес й дадох дума след пет дни да поискам ръката на Лизавета Николаевна — каза неочаквано Николай Всеволодович с една неочаквана откровеност.
— А, е… да, разбира се — смотолеви Пьотър Степанович, сякаш смутен, — носи се слух, че там станал годеж, знаете ли го? И е вярно. Но вие сте прав, тя и от църквата ще дотърчи, стига само да я повикат. Нали не се сърдите, че аз така?
— Не, не ви се сърдя.
— Забелязвам, че днес е много трудно да ви разсърди човек, и започвам да се боя от вас. Ужасно съм любопитен как ще изглеждате утре. Сигурно доста нещо сте им приготвили. Нали не се сърдите, дето тъй говоря?
Николай Всеволодович нищо не отговори, което вече съвсем нервира Пьотър Степанович.
— Впрочем това относно Лизавета Николаевна сериозно ли е?
Николай Всеволодович му отправи продължителен и хладен поглед.
— А, разбирам, само за успокоение на майчето, да де.
— Ами ако сериозно? — троснато попита Николай Всеволодович.
— Какво пък, на добър час, както се казва в такива случаи, няма да попречи на делото (виждате ли, не казвам: на нашето дело, вие не я обичате тая думичка — нашето), а аз… аз съм на вашите услуги, знаете го.
— Мислите ли?
— Нищо, нищо не мисля — разбърза се Пьотър Степанович, като се смееше, — защото знам, че предварително сте обмислили работите си, че всичко сте измислили. Просто исках да кажа, че най-сериозно съм на услугите ви, винаги и навсякъде и за каквото и да било, за каквото и да било, нали ме разбирате?
Николай Всеволодович се прозина.
— Омръзнах ви — скочи внезапно Пьотър Степанович, грабвайки съвсем новото си бомбе, и уж си тръгна, а всъщност не тръгваше и не преставаше да говори нито за миг, макар и прав, само от време на време почваше да крачи по стаята и на по-оживените места на разговора се удряше с шапката по коляното.
— Аз пък мислех да ви поразвеселя малко с тия Лембке — весело викна той.
— Не, не, друг път. Как е впрочем със здравето Юлия Михайловна?
— Какво значи все пак светски маниери: здравето й ви интересува, колкото ланският сняг, ама пак питате. Аз това го одобрявам. Добре е и най-суеверно ви уважава, и най-суеверно очаква от вас нещо голямо. За неделната случка мълчи и е сигурна, че ще оправите всичко сам с едното си появяване. Ей богу, тя си представя, че всичко можете. Впрочем сега вие повече от когото и да било сте една загадъчна и романтична личност — извънредно изгодно положение. То не е за говорене как ви очакват. Още като заминавах, беше нажежено, а сега вече не се трае. Между впрочем още веднъж моите благодарности за писмото. Тях всички ги е страх от граф К. Знаете ли, че май ви смятат за шпионин? Аз го поддържам, нали не се сърдите?
— Няма значение.
— Разбира се; това е нужно за по-нататък. Те тук си имат свои порядки. Аз, разбира се, ги поощрявам; Юлия Михайловна е начело, Гаганов също. Смешно ли ви е? Ама аз си имам тактика: лъжа, лъжа, пък току изтърся нещо умно тъкмо когато всички го търсят. Те ме наобикалят, а аз пак почвам с лъжите. На мен вече не ми обръщат внимание. „Има способности, казват, но като че е паднал от небето.“ Лембке ми дава служба, да съм се поправел. Аз, знаете ли, ужасно го третирам, сиреч компрометирам го, а той само се пули. Юлия Михайловна ме поощрява. Да, впрочем Гаганов го е ужасно яд на вас. Какво ли не ми наговори за вас вчера в Духово. Аз, разбира се, моментално — цялата истина, тоест не цялата, разбира се. Цял ден изкарах при него в Духово. Чудесно имение, хубава къща.
— Нима сега той е в Духово? — сепна се внезапно Николай Всеволодович и почти скочи от мястото си, навеждайки се рязко напред.
— Не, нали ме доведе сутринта, заедно се върнахме — каза Пьотър Степанович, уж не забелязвайки моментното вълнение на Николай Всеволодович. — Гледай, съборих книгата — наведе се той да вдигне падналия албум. — „Жените на Балзак“, с картинки — отвори го той внезапно, — не съм го чел. Лембке също пише романи.
— Тъй ли? — попита Николай Всеволодович, сякаш заинтересуван.
— На руски език и скришом, разбира се. Юлия Михайловна знае и му позволява. Бунак; впрочем с маниери; това у тях е изпипано. Каква строгост на формите, каква издържаност! Де да можехме и ние така.
— Хвалите администрацията?
— Защо пък не! Единственото нещо, което е добре изпипано в Русия… няма, няма — сепна се той внезапно, — няма за онова, за деликатното нито дума. Но хайде, сбогом, виждате ми се нещо прежълтял.
— Тресе ме.
— То си ви личи, я лягайте. А знаете ли, че в тукашния уезд има скопци[19], интересен народ… Но, хайде, друг път. Впрочем още една историйка: в уезда е разположен пехотен полк. В петък вечерта пих с офицерите в Б. Нали си имаме там трима приятели. Vous comprenez?[20] Говорихме за атеизма, и то се знае, нацяло касирахме бога. Останаха доволни-предоволни. Впрочем Шатов е на мнение, че ако ще се почва бунт в Русия, непременно трябвало да се почне с атеизма. Може и да е вярно. Един стар службашин, побелял капитан, седя, седя, през цялото време мълча, думица не беше продумал, пък току изведнъж се изтъпани насред стаята и уж че като на себе си, ама високо, знаете ли, каза: „Щом няма бог, какъв капитан съм аз тогава?“ Взе си фуражката, разпери ръце и си отиде.
— Доста цялостна мисъл е изразил — за трети път се прозина Николай Всеволодович.
— Тъй ли? Аз пък не разбрах; исках да ви питам. Е, какво още да ви кажа: интересна е фабриката на Шпигулини; както знаете, петстотин души работници, разсадник на холера, не е почиствано от петнайсет години и удрят работниците в заплатата; търговци милионери. Мога да ви уверя, че сред работниците има и такива, дето си имат представа и за Internationale[21]. Какво се смеете? Ще видите, дайте ми само още мъничко, много мъничко време. Аз вече ви молих да ми дадете малко време и сега пак моля за още, и тогава… а впрочем, виноват, няма, няма, аз не за това, не се мръщете. Хайде, сбогом. Ама какво правя аз? — върна се той внезапно назад. — Най-важното щях да забравя: току-що казаха, че нашият сандък е пристигнал от Петербург.
— Тоест? — погледна го Николай Всеволодович, не разбирайки.
— Тоест вашият сандък, вашите неща с фраковете, панталоните и бельото; пристигнал ли е? Вярно ли е?
— Да, одеве ми казваха нещо.
— Ах, тогава дали не може още сега!…
— Попитайте Алексей.
— Добре де, а утре, утре? Нали там с вашите неща са и мойто сако, фракът и трите ми панталона от Шармер, по ваша препоръка, помните ли?
— Чувам да разправят, че играете на джентълменство? — засмя се Николай Всеволодович. — Вярно ли е, че ще вземате уроци по езда?
Пьотър Степанович се усмихна криво.
— Знаете ли какво — разбърза се той с един внезапно пресипнал и разтреперан глас, — знаете ли какво, Николай Всеволодович, хайде да оставим подигравките веднъж завинаги, а? Вие, разбира се, можете да ме презирате колкото си щете, щом ви е толкова смешно, но все пак да оставим подигравките, поне за известно време? Може ли, а?
— Добре, добре, няма повече — промълви Николай Всеволодович. Пьотър Степанович се усмихна, потупа с шапката си по коляното, пристъпи от крак на крак и доби предишния си израз.
— Тук някои ме смятат дори за ваш съперник относно Лизавета Николаевна, как да не се грижа за външността си? — засмя се той. — Кой ли е обаче тоя, дето ви донася? Хм. Точно осем часът; е, аз потеглям; обещах на Варвара Петровна да й се обадя, но ще пропасувам, а вие си легнете и утре ще сте по-бодър. Навън е тъмница и вали, но аз впрочем съм с файтон, защото нощем тук е неспокойно по улиците… Ах, добре, че се сетих: в града и околностите обикаля един беглец от Сибир, Федка Каторжника, бивш мой крепостен, моля ви се, когото преди петнайсет години моето татенце пратило войник и прибрало паричките. Крайно забележителна личност.
— Вие… говорихте ли с него?
— Говорих. Той не се крие от мен. Личност, готова на всичко, на всичко; срещу пари, разбира се, но има и убеждения, негови си, разбира се. Ах, да, пак се сетих нещо: ако вие одеве сериозно за тоя си замисъл, сещате ли се, относно Лизавета Николаевна де, още веднъж ви напомням, че и аз съм личност, готова на всичко, каквото и да било и както и да било, и съм изцяло на вашите услуги… Какво се хващате за бастуна? Ах, не, не било за бастуна, значи… Стори ми се, че си търсите бастуна, представяте ли си?
Николай Всеволодович нищо не търсеше и нищо не казваше, но действително внезапно се бе малко понадигнал с една странна тръпка по лицето.
— И ако ви се отвори някаква нужда във връзка с господин Гаганов — изтърси внезапно Пьотър Степанович, вече направо сочейки с глава към попивателницата, — аз, разбира се, мога да уредя всичко и съм убеден, че няма да ме пренебрегнете.
Недочакал отговора, той внезапно излезе, но още веднъж надникна през вратата.
— Казвам ви го, защото онази неделя например и Шатов нямаше право да си рискува живота, тогава де, когато се приближи до вас, нали? Бих искал да го имате предвид. И пак изчезна, без да дочака отговор.
IV
Може би, като изчезваше, си е мислел, че оставайки сам, Николай Всеволодович ще почне да блъска с юмруци по стените, и то се знае, би бил доволен да надникне отнякъде, стига да беше възможно. Но много щеше да се излъже: спокойствието не бе напуснало Николай Всеволодович. Той постоя около две минути до масата в същото положение, очевидно дълбоко замислен; но скоро една ленива, студена усмивка изпълзя на устните му. Бавно седна на предишното си място, на дивана в ъгъла, и затвори очи, като да бе уморен. Крайчецът на писмото, както преди, надничаше под попивателницата, но той дори не се помръдна да го поправи.
Скоро той съвсем се унесе. Изтормозилата се през тия два дни от тревоги Варвара Петровна не се стърпя и след излизането на Пьотър Степанович, който бе обещал да й се обади, но не сдържа обещанието си, се осмели лично да навести Nicolas, та макар и не в определеното време. Все едно й беше на ума: няма ли най-сетне да каже нещо окончателно? Тихо, както и одеве, почука на вратата и като не получи отново отговор, отвори. Виждайки, че Nicolas седи някак твърде неподвижно, тя с разтуптяно сърце предпазливо се приближи до дивана. Остана поразена, че е заспал толкова бързо и че може да спи така изправен и толкова неподвижно; дори дишането му почти не се забелязваше. Лицето му бе бледо и сурово, но някак съвсем застинало, неподвижно; веждите — леко сключени и намръщени; той решително приличаше на бездушна восъчна фигура. Сдържайки дъха си, тя постоя над него около три минути и внезапно я обзе страх; излезе на пръсти, спря се на вратата, прекръсти го набързо и се оттегли незабелязано, с едно ново тежко усещане и с нова мъка.
Той спа дълго, повече от час, и все тъй вцепенен; не трепна нито един мускул на лицето му, по цялото му тяло не се забелязваше ни най-малкото движение; веждите му бяха все тъй сурово сключени. Ако Варвара Петровна беше останала още три минути, сигурно не би понесла потискащото чувство от тази летаргична неподвижност и би го събудила. Но той внезапно сам отвори очи и все тъй неподвижно седя още десетина минути, все едно че внезапно беше открил в ъгъла на стаята някакъв необикновен предмет и сега упорито и любопитно го разглеждаше — макар там да нямаше нито нещо ново, нито нещо особено. Най-сетне се раздаде тихият, плътен звук на големия стенен часовник, който удари веднъж. Той с известна тревога се обърна, за да погледне циферблата, но почти в същия този момент се отвори задната врата, която водеше към коридора, и се показа камердинерът Алексей Егорович. В едната си ръка носеше дебело палто, шал и шапка, а в другата — сребърна табличка, на която имаше някаква бележка.
— Девет и половина — обяви той с тих глас и поставяйки донесените дрехи на един стол в ъгъла, му поднесе на табличката бележката — два реда, написани с молив върху малко, незапечатано листче. Прочитайки тези редове, Николай Всеволодович също взе от масата молив, драсна на края на бележката две думи и я постави обратно на табличката.
— Щом изляза, незабавно да се предаде, а сега дай да се облека — каза той, ставайки от дивана.
Забелязвайки, че е облечен с тънко кадифено сако, той помисли и нареди да му се даде сукненият сюртук, който използваше за по-официални вечерни визити. Най-сетне, като се облече, си сложи шапката, заключи вратата, от която влизаше при него Варвара Петровна, и като взе затиснатото с попивателницата писмо, мълчаливо излезе в коридора, съпровождан от Алексей Егорович. По коридора стигнаха до тясното задно каменно стълбище и слязоха в антрето, от което се излизаше направо в градината. В ъгъла на антрето Алексей Егорович беше приготвил фенер и голям чадър.
— Поради изключителния дъжд калта по тукашните улици е невъзможна — доложи Алексей Егорович, правейки един плах опит за сетен път да отклони господаря си от пътешествието. Но господарят му отвори чадъра и мълчаливо излезе в тъмната като изба, влажна и мокра стара градина. Вятърът шумеше и клатеше върховете на полуоголените дървета, тесните пясъчни пътеки бяха размекнати и хлъзгави. Както си беше по фрак и гологлав, Алексей Егорович вървеше три крачки напред и осветяваше пътя с фенера.
— Не се ли забелязва? — запита внезапно Николай Всеволодович.
— От прозорците не се забелязва, пък и всичко е предвидено отнапред — тихо и отмерено отговори слугата.
— Майка ми легна ли?
— Заключи се, както винаги напоследък, точно в девет часа и вече няма начин да узнае нещо за тяхна милост. В колко часа ще заповядате да ви чакам? — прибави той, осмелявайки се да зададе въпрос.
— В един, един и половина, не по-късно от два.
— Слушам.
Избикаляйки по криволичещите пътечки цялата градина, която и двамата знаеха наизуст, стигнаха до каменната градинска ограда и тук, на края на зида, налучкаха малката вратичка, която водеше към тясната затънтена уличка и която беше почти винаги заключена, но чийто ключ се оказа в ръцете на Алексей Егорович.
— Да не скръцне вратата? — пак се осведоми Николай Всеволодович.
Но Алексей Егорович доложи, че още вчера е смазана, „също както и днес“. Той беше вече вир-вода. Отвори вратичката и подаде ключа на Николай Всеволодович.
— Ако ще благоволите да предприемете далечен път, докладвам, щото не вярвам на тукашните, особено дето е по-затънтено и най-паче отвъд реката — още веднъж не се стърпя той. Беше стар слуга, още навремето го бяха определили да се грижи за Николай Всеволодович, на ръце го бе носил и беше човек сериозен и строг, който обичаше и да чуе, и да попречете нещичко за божественото.
— Не се тревожи, Алексей Егорич.
— Господ да ви благослови, господарю, но само при начинание на добри дела.
— Какво? — спря се Николай Всеволодович, прекрачил вече на улицата.
Алексей Егорович твърдо повтори пожеланието си; никога по-преди не би се осмелил да го изрази гласно и с такива думи пред господаря си.
Николай Всеволодович заключи вратата, пусна ключа в джоба си и тръгна по уличката, затъвайки на всяка крачка в калта до глезените. Най-сетне излезе на настилката на дълга и пуста улица. Познаваше града като петте си пръста; но Богоявленская улица беше още далече. Вече минаваше десет, когато най-сетне се спря пред затворените порти на старата и тъмна къща на Филипови. Сега, с изнасянето на Лебядкини, долният етаж беше съвсем опразнен, със заковани прозорци, но в таванската стая на Шатов светеше. Тъй като нямаше звънче, той почна да удря с ръка по портата. Открехна се прозорче и Шатов надникна на улицата; беше страшна тъмница, не беше лесно да се види кой е: Шатов се взира дълго, около минута.
— Вие ли сте това? — попита внезапно той.
— Аз — отвърна неканеният гост.
Шатов захлопна прозореца, слезе долу и отключи портата. Николай Всеволодович прекрачи високия праг и без да каже нито дума, отмина право към пристройката на Кирилов.
V
Тук всичко бе отключено и вратите дори зееха. Преддверието и първите две стаи бяха тъмни, но в последната, където живееше и пиеше чай Кирилов, сияеше светлина и се чуваше смях и някакви странни крясъци. Николай Всеволодович тръгна към светлината, но не влезе, а се спря на прага. Чаят беше на масата. Насред стаята, гологлава, само по фуста и едно заешко кожухче, с обувки на бос крак стоеше бабичка — роднина на хазяина. Държеше в ръцете си детенце на година-година и половина — с голи крачета, по ризка, с разрешена косица и пламнали бузки; изглежда, току-що го бяха взели от люлката и беше плакало — сълзичките още стояха на очите му; но вече протягаше ръчички, пляскаше с длани и се смееше, както се смеят малките деца, с хълцане. Пред него Кирилов тупкаше по пода голяма червена гумена топка; топката подскачаше до тавана, пак тупкаше, детето викаше: „Топ, топ“, Кирилов ловеше „топ“, подаваше му я и вече самото то я хвърляше с непохватните си ръчички, а Кирилов пак тичаше да я лови. Най-сетне „топ“ се търкулна под шкафа. „Топ, топ!“ — викаше детето. Кирилов легна на пода и се протегна, опитвайки се да извади „топ“ изпод шкафа с ръка. Николай Всеволодович влезе в стаята; като го видя, детето се вкопчи в старицата, писна и пак го удари на плач; тя тутакси го изнесе.
— Ставрогин? — каза Кирилов, ставайки от пода с топката в ръка, без каквато и да било изненада от неочакваната визита. — Искате ли чай?
Беше се вече изправил.
— Много, няма да се откажа, особено ако е горещ — каза Николай Всеволодович, — вир-вода съм.
— Горещ и дори врял — с удоволствие потвърди Кирилов, — сядайте: кален сте, но нищо, после ще забърша.
Николай Всеволодович седна и почти на един дъх изпи налятата чаша.
— Още? — попита Кирилов.
— Благодаря.
Кирилов, който до момента не беше седнал, тутакси седна насреща му и попита:
— Какво така?
— По работа. На, прочетете това писмо на Гаганов; спомняте ли си, разказвал ви бях в Петербург.
Кирилов взе писмото, прочете го, сложи го на масата и погледна въпросително.
— Тоя Гаганов — почна да обяснява Николай Всеволодович — го срещнах, както знаете, за първи път в живота си в Петербург, преди месец. Срещали сме се три пъти у разни хора. Без да се е запознавал и говорил с мен, той намери все пак възможност да се държи много дръзко. Бях ви казвал тогава, но не знаете друго: на заминаване от Петербург — той си тръгна преди мене — внезапно ми прати писмо, макар и не чак като това, но пак крайно неприлично и което е странното, в него изобщо не се обясняваше поводът, по който е писано. Отговорих му тутакси, също с писмо, и напълно откровено му заявих, че вероятно го е яд на мен заради случая с баща му преди четири години тук, в клуба, и че аз от своя страна съм готов да му поднеса всячески извинения, тъй като постъпката ми не е била умишлена и се е дължала на заболяването ми. Молех го да вземе предвид извиненията ми. Не ми отговори и си замина; но ето че сега го заварвам тук съвсем побеснял. Известиха ме за някои негови публични отзиви по мой адрес, невъзможно груби и с невероятни обвинения. И ето че днес пристига това писмо, такова, каквото сигурно никой никога не е получавал, с псувни и с изрази от сорта „вашата бита мутра“. Дойдох, надявайки се, че няма да откажете да ми станете секундант.
— Казахте, никой не бил получавал — обади се Кирилов, — от яд — може; пишат нееднократно. Пушкин писа на Хекерн[22]. Добре, ще ида. Кажете кога и как?
Николай Всеволодович обясни, че иска утре, и непременно да се почне с подновяване на извиненията и дори с обещание за второ извинително писмо, но при условие че и Гаганов обещае от своя страна повече да не пише писма. А полученото писмо ще се счита, че изобщо го е нямало.
— Твърде много отстъпки, няма да приеме — каза Кирилов.
— Преди всичко исках да чуя от вас: ще приемете ли да му предадете тези условия?
— Ще ги предам. Ваша работа. Но той няма да приеме.
— Знам, че няма да приеме.
— Той иска дуел. Кажете: как да бъде дуелът?
— Работата е там, че аз непременно бих искал всичко да свърши още утре. В девет часа сутринта вие сте при него. Ще ви изслуша и няма да приеме, но ще ви прати при своя секундант — да кажем, около единайсет часа. Вие с него решавате и после в един или два всички да сме на мястото. Опитайте, моля ви, да стане тъкмо така. Оръжието, разбира се, пистолети, и особено ви моля за следното: бариерите на десет крачки; после ни отвеждате на по десет крачки от бариерите и по даден знак се приближаваме. Всеки е длъжен непременно да иде до бариерата си, но може да стреля и по-рано, в движение. Това е всичко, мисля.
— Десет крачки между бариерите е близко — забеляза Кирилов.
— Добре, дванайсет, но не повече, нали разбирате, че той иска сериозен дуел. Знаете ли да зареждате пистолети?
— Зная. Аз имам пистолети; ще дам честна дума, че не сте стреляли с тях. Неговият секундант също ще даде дума за своите; значи два чифта и ще хвърлим ези-тура; с неговите или с нашите.
— Прекрасно.
— Искате ли да видите пистолетите?
— Може.
Кирилов клекна пред куфара си в ъгъла, не го беше разопаковал, а вадеше от него каквото му потрябваше. Измъкна от дъното кутия от палмово дърво, облечена отвътре с червено кадифе, и извади от нея чифт изящни, извънредно скъпи пистолети.
— Всичко има: барут, куршуми, патрони. Имам и револвер, почакайте, имам и револвер.
Пак бръкна в куфара и измъкна друга кутия с шестцевен американски револвер.
— Имате доста оръжие и много скъпо.
— Много. Изключително.
Бедният, почти мизерстващ Кирилов, който впрочем никога не забелязваше мизерията си, сега откровено се хвалеше с оръжейните си съкровища, без съмнение придобити с цената на изключителни лишения.
— Не сте се отказали от ония си мисли? — с известна предпазливост попита Ставрогин след минутно мълчание.
— Не съм — просто отвърна Кирилов, догаждайки се тутакси, още по гласа, за какво го питат, и взе да прибира оръжието от масата.
— И кога? — още по-предпазливо запита Николай Всеволодович, пак след известно мълчание.
Кирилов междувременно беше прибрал двете кутии в куфара и седеше на предишното си място.
— Както знаете, не зависи от мен; когато кажат — промърмори той, сякаш че малко неохотно, но същевременно явно готов да отговаря и на други въпроси. Гледаше Ставрогин, без да сваля от него черните си, без блясък очи, с някакво спокойно, но добро и приветливо чувство.
— Аз, естествено, разбирам самоубийството — отново, малко намръщен, започна Николай Всеволодович след дълго, триминутно вглъбено мълчание, — понякога съм си го представял дори, но всеки път ми идва една нова мисъл: ако извършиш злодеяние или, главното, нещо срамно, тоест позорно, само че много подло и… смешно, тъй че хората хиляда години да го помнят и хиляда години да те заплюват, и внезапно мисълта: „Един удар в слепоочието, и няма да има нищо.“ Какво те интересуват тогава хората и че щели да те заплюват хиляда години, не е ли тъй?
— Вие наричате това нова мисъл? — каза Кирилов, като помисли.
— Аз… не го наричам… когато веднъж помислих, почувствах съвсем нова мисъл.
— „Почувствахте мисълта“? — повтори Кирилов. — Това е добре. Има много стари мисли, които внезапно ще станат нови. Това е вярно. Сега аз виждам много неща като за пръв път.
— Да кажем, че сте живели на луната — прекъсна го Ставрогин, без да го слуша и продължавайки мисълта си, — и да кажем, че сте извършили там всички тия смешни щуротии… Оттук вие сте сигурен, че там ще се смеят и ще заплюват името ви хиляда години, вечно, дорде луна лунува. Но сега вие сте тук и гледате луната оттук: какво ви засяга тук всичко онова, което сте направили там, и че ония, тамошните, ще заплюват хиляда години, не е ли тъй?
— Не знам — отговори Кирилов, — не съм бил на луната — добави той без всякаква ирония, единствено за отбелязване на факта.
— Чие беше това дете одеве?
— Свекърва й на бабичката пристигна; не, снаха й… все едно… От три дни. Лежи болна, с детето; нощем много плаче, коремът. Майката спи, а бабичката го донася; аз с топката. Топката е от Хамбург. Купих я в Хамбург, за да хвърлям и ловя; укрепва гръбнака. Момиченце е.
— Обичате ли децата?
— Обичам — отвърна Кирилов, твърде впрочем равнодушно.
— Ще рече, и живота обичате?
— Да, и живота обичам, защо?
— Ами решили сте да се застрелвате.
— Е, та какво? Защо всичко в кюпа? Животът е едно, това е друго. Живот има, а смърт изобщо няма.
— Почнали сте да вярвате в бъдещия вечен живот?
— Не, не в бъдещия вечен, а в тукашния вечен. Има един миг, вие стигате до мига, в който времето внезапно спира и почва вечното.
— Надявате се да стигнете до тоя миг?
— Да.
— Това едва ли е възможно в наше време — също без всякаква ирония, бавно и някак замислено отвърна Николай Всеволодович. — В Апокалипсиса ангелът се кълне, че вече няма да има време.[23]
— Знам. Това там е много вярно; ясно и точно. Когато човекът достигне щастието, няма да има вече време, защото не е нужно. Много вярна мисъл.
— Къде ще го дянат?
— Никъде няма да го дяват. Времето не е предмет, а идея. Ще угасне в ума.
— Стари философски положения, едни и същи от веки веков — с някакво отвращение и съжаление измърмори Ставрогин.
— Едни и същи! Едни и същи от началото на света и никога никакви други! — поде Кирилов с припламващ поглед, сякаш в тази идея се съдържаше едва ли не самата победа.
— Вие, изглежда, сте много щастлив, Кирилов?
— Да, много съм щастлив — отвърна онзи, като да даваше един най-обикновен отговор.
— Но вие съвсем доскоро се огорчавахте, яд ви беше на Липутин?
— Хм… сега не се ядосвам. Тогава още не знаех, че съм щастлив. Виждали ли сте листо, листо от дърво?
— Виждал съм.
— Наскоро видях едно жълто, с малко зелено, по краищата позагнило. Носеше го вятърът. Като бях десетгодишен, зиме нарочно затварях очи и си представях листо — зелено, ярко, с жилки, и слънце блести. Отварях очи и не вярвах, защото бе много хубаво, и пак затварях.
— Това какво е, алегория ли?
— Н-не… защо? Аз не за алегория, просто листо, едно листо. Листото е хубаво. Всичко е хубаво.
— Всичко?
— Всичко. Човек е нещастен, защото не знае, че е щастлив, само затова. Това е всичко, всичко! Който разбере, тутакси, веднага ще стане щастлив, на минутата. Тая свекърва ще умре, а момиченцето ще остане — всичко е хубаво. Внезапно го открих.
— А дето ще умре от глад, а дето ще го обидят и обезчестят това момиченце — пак ли е хубаво?
— Хубаво е. И ако откъснат някому главата заради детето, е хубаво! И ако не откъснат — пак е хубаво! Всичко е хубаво, всичко. Хубаво им е на всички, които знаят, че всичко е хубаво. Ако знаеха, че им е хубаво, щеше да им е хубаво, но не знаят още, че им е хубаво, и не им е хубаво. Тук е то цялата идея, цялата, и друго няма!
— И кога разбрахте, че сте толкова щастлив?
— Миналата седмица, във вторник, не, в сряда, защото беше вече сряда, през нощта.
— По какъв повод?
— Не помня, тъй; разхождах се из стаята… няма значение. Спрях часовника, беше два и трийсет и седем.
— Като емблема, че времето трябва да спре ли?
Кирилов премълча.
— Те не са добри — отново почна той внезапно, — защото не знаят, че са добри. Като го узнаят, няма да насилват момиченцето. Трябва да узнаят, че са добри, и тутакси ще станат добри, всички до един.
— Вие например го знаете, ще рече, вие сте добър?
— Аз съм добър.
— С това аз впрочем съм съгласен — намръщено измърмори Ставрогин.
— Който научи хората, че всички са добри, той ще завърши света.
— Който учеше, го разпънаха.
— Той ще дойде и името му е човекобог.
— Богочовекът?
— Човекобогът, това е разликата.
— Да не би да сте почнали вече и кандило да палите?
— Да, аз го запалих.
— Вярващ ли станахте?
— Бабичката обича да гори… а днес нямаше кога — промърмори Кирилов.
— Може да сте почнали и да се молите, а!
— Аз на всичко се моля. Вижте, паяче пълзи по стената, гледам го и съм му благодарен, че пълзи.
Очите му пак запламтяха. Гледаше Ставрогин право в очите и го пронизваше с упорития си непреклонен поглед. Ставрогин се мръщеше, в погледа му се четеше погнуса, но смях нямаше.
— Басирам се, че когато пак дойда, ще сте повярвали и в бога — каза той, стана и взе шапката си.
— Защо? — надигна се и Кирилов.
— Ако узнаехте, че вярвате в бога, щяхте да вярвате; но тъй като още не знаете, че вярвате в бога, вие не вярвате — засмя се Николай Всеволодович.
— Не е тъй — каза Кирилов, като размисли, — преиначихте мисълта. Светски шегички. Спомнете си какво значехте вие в моя живот, Ставрогин.
— Довиждане, Кирилов.
— Идвайте нощем; кога?
— Ама вие да не сте забравили вече за утрешното?
— Ах, забравил бях, бъдете спокоен, няма да се успя; в девет часа. Аз мога да се събуждам, когато поискам. Лягам и си казвам: в седем часа, и ще се събудя в седем; в десет часа — и ще се събудя в десет.
— Чудесни свойства имате — погледна бледото му лице Николай Всеволодович.
— Ще дойда да отворя вратата.
— Не се безпокойте, Шатов ще ми отвори.
— А, Шатов. Добре, сбогом.
VI
Вратата на опразнената къща, в която живееше само Шатов, беше отключена; но влизайки в антрето, Ставрогин се озова в пълен мрак и взе да напипва с ръка стълбата, която водеше към мансардата. Внезапно горе се отвори врата и блесна светлина; Шатов не излезе, а само отвори вратата си. Когато Николай Всеволодович застана на прага на стаята му, го видя да стои в очакване в ъгъла до масата.
— Ще ме приемете ли по работа?
— Влизайте и сядайте — отвърна Шатов, — заключете вратата, чакайте, аз ще заключа.
Той заключи вратата, върна се до масата и седна срещу Николай Всеволодович. През тая седмица беше отслабнал, а сега, изглежда, имаше температура.
— Вие ме измъчихте — каза той, навеждайки очи, с тих полушепот, — защо ви нямаше?
— Толкова ли бяхте сигурен, че ще дойда?
— Да, чакайте, аз бълнувах… може би и сега бълнувам… Чакайте.
Той посегна към най-горната от трите полици с книги и взе от края някакъв предмет. Беше револвер.
— Една нощ ми се привидя, че ще дойдете да ме убивате, и още сутринта с последните си пари купих от оня безделник Лямшин револвер; не исках да ви се оставя. После дойдох на себе си… Нямам нито барут, нито патрони; тъй си стои на полицата оттогава. Чакайте…
Надигна се и посегна да отвори прозорчето.
— Не го хвърляйте, защо? — спря го Николай Всеволодович. — Пари струва, а утре хората ще вземат да приказват, че под прозорците на Шатов се търкалят револвери. Сложете го пак там, така, седнете. Кажете ми, защо сякаш ми се извинявате, задето сте мислили, че ще дойда да ви убивам? Аз и сега не съм дошъл да се помиряваме, а да поговорим за необходимото. Обяснете ми, първо, нали не ме ударихте заради връзката ми с жена ви?
— Вие знаете, че не е за това — пак сведе поглед Шатов.
— И не защото сте повярвали на глупавата клюка относно Даря Павловна?
— Не, не, разбира се, че не! Глупости! Сестра ми още от самото начало ми каза… — нетърпеливо и троснато каза Шатов и дори малко тропна с крак.
— Ще рече, и аз съм познал, и вие сте познали — със спокоен тон продължаваше Ставрогин, — прав сте: Маря Тимофеевна Лебядкина ми е законна жена, венчана за мен в Петербург преди четири и половина години. Нали заради нея ме ударихте?
Просто поразен, Шатов мълчеше и слушаше.
— Знаех го, но не вярвах — измърмори той накрая, гледайки Ставрогин със странен поглед.
— Затова ли ме ударихте?
Шатов пламна и почти несвързано замърмори:
— Заради вашето падение… заради лъжата. Не защото съм искал да ви наказвам; като се приближавах, не знаех, че ще ви ударя… заради това, че толкова много значехте в живота ми… Аз…
— Разбирам, разбирам, пестете си думите. Съжалявам, че сте болен: работата ми е неотложна.
— Аз твърде дълго ви чаках — почти се разтрепера Шатов и понечи да стане от мястото си, — казвайте вашата работа, аз също ще ви кажа… после…
Той седна.
— Работата ми не е от тази категория — започна Николай Всеволодович, вглеждайки се в него с любопитство, — поради някои обстоятелства днес бях принуден да избера такова време и да дойда да ви предупредя, че е възможно да ви убият.
Шатов го гледаше стреснато.
— Знам, че може би ме грози опасност — каза той бавно, — но вие, вие откъде може да знаете?
— Оттам, че както и вие, така и аз се числя към тях, и аз съм същият такъв член на организацията, какъвто и вие.
— Вие… вие сте член на организацията?
— По очите ви виждам, че всичко сте очаквали от мен, само не това — поусмихна се Николай Всеволодович, — но позволете, ще рече, вие сте знаели вече, че срещу вас се готви покушение?
— Не съм и помислял. И сега не мисля въпреки думите ви, макар че… макар че кой може да е сигурен в нещо с тия глупаци! — кресна той внезапно, изпадайки в ярост, и удари с юмрук по масата. — Не ме е страх от тях! Аз скъсах с тях. Оня идва тук четири пъти и казваше, че можело… но… — той погледна Ставрогин — впрочем вие какво знаете?
— Не се безпокойте, не ви лъжа — доста хладно продължаваше Ставрогин с вид на човек, който само изпълнява дълга си. — Питате ме какво зная. Зная, че сте влезли в организацията в странство преди две години и още при старото й устройство, преди да заминете за Америка и като че ли след последния ни разговор, за който толкова много ми писахте от Америка в писмото си. Впрочем извинете, че не ви отговорих с писмо, а се ограничих с това да…
— Да пратите пари; чакайте — спря го Шатов, бързо отвори чекмеджето на масата и извади изпод книжата една червена банкнота, — ето, вземете си стоте рубли, които ми бяхте пратили; без вас щях да загина там. Дълго имаше да ги чакате, ако не беше майка ви: тия сто рубли са от нея, подари ми ги преди девет месеца, като бях болен, милостиня. Но продължавайте, моля…
Той се задъхваше.
— В Америка вие, вие променяте схващанията си и връщайки се в Швейцария, сте поискали да се откажете. Те нищо не ви отговарят, но ви възлагат тук, в Русия, да приемете от някого някаква печатница и да я съхранявате до предаването й на лицето, което ще се яви от тяхно име. Не знам всичко с пълни подробности, но в общи черти е така, нали? Вие пък с надеждата или при условие, че това ще бъде последното им искане и че след това напълно ще ви освободят, сте се наели. Дали е така, или не, но всичко това го научих не от тях, а съвсем случайно. Но има нещо, което като че ли и досега не знаете: тези господа изобщо не възнамеряват да се разделят с вас.
— Това е нелепо! — кресна Шатов. — Аз честно им заявих, че се разминавам с тях по всичко! Това е мое право, право на съвестта и мисълта… Аз няма да позволя! Няма сила, която би могла…
— Знаете ли какво, не викайте — много сериозно го прекъсна Николай Всеволодович, — тоя Верховенски е такова човече, че може би и сега ни подслушва със собствените си или с чужди уши, та ако щете от собственото ви антре. Дори пияницата Лебядкин е бил едва ли не задължен да ви следи, а вие може би него, така ли е? По-добре кажете: съгласи ли се сега Верховенски с вашите аргументи, или не?
— Съгласи се; каза, че можело и че съм имал право…
— Е, значи ви лъже. Аз знам, че дори Кирилов, който изобщо не се числи към тях, и той им е давал сведения за вас; а агентите им са много, някои дори не знаят, че служат на организацията. Вас винаги са ви държали под око. Между другото, Пьотър Верховенски е пристигнал тук тъкмо за да реши окончателно вашия въпрос и има пълномощията за това, а именно: в един удобен момент да ви унищожи като човек, който твърде много знае и може да направи донос. Повтарям ви, това е съвсем сигурно; и ми позволете да добавя, че, кой знае защо, те са напълно убедени, че сте шпионин и ако още не сте направили донос, ще го направите. Вярно ли е това?
Чувайки такъв въпрос, изречен с такъв обикновен тон, Шатов изкриви устни.
— Дори и да бях шпионин, на кого да направя доноса? — злобно каза той, без да отговори направо. — Не, оставете ме мене, мене кучета ме яли! — викна той, улавяйки се внезапно пак за първоначалната мисъл, която го бе потресла твърде силно, по всичко изглежда, несравнимо по-силно от вестта за грозящата го опасност. — Вие, Ставрогин, как сте могли вие да се напъхате в такава безсрамна, бездарна, лакейска нелепица! Вие — член на тяхната организация! Това ли е то подвигът на Николай Всеволодович! — викна той едва ли не в отчаяние.
Той дори плесна с ръце, сякаш за него не можеше да има нищо по-горчиво и тъжно от това откритие.
— Извинете — наистина се учуди Николай Всеволодович, — но вие май гледате на мен като на някакво слънце, а на себе си като на някаква буболечка в сравнение с мен. Забелязах го дори в писмото ви от Америка.
— Вие… вие не знаете… Ах, по-добре изобщо да не говорим за мен, изобщо! — отсече внезапно Шатов. — Ако можете да обясните нещо за себе си, обяснете го… На моя въпрос! — повтаряше той трескаво.
— С удоволствие. Питате ме: как съм могъл да се напъхам в тоя вертеп? След това, както ви казах, аз дори ви дължа известна откровеност по този въпрос. Вижте какво, в строгия смисъл на думата аз изобщо не се числя към тази организация, не съм се числил и преди и много повече от вас имам правото да я напусна, защото дори не съм постъпвал. Наопаки, от самото начало им заявих, че нямам нищо общо с тях, а ако съм помагал случайно, то е било просто една моя прищявка. Участвах донякъде в преустройството на организацията по новия план и дотук. Но сега са размислили и са решили, че и мен да пуснат е опасно и изглежда, че и аз съм осъден.
— Да, да, те само това знаят — смъртни наказания, предписания, хартийки с печати и подписи! Трима души и половина се подписват. И вие им вярвате, че са способни на нещо!
— Тук сте отчасти прав, а отчасти не — с предишното равнодушие, дори вяло продължи Ставрогин. — Не ще и дума, че тук има много фантазия, както е винаги в такива случаи: групичката преувеличава своя ръст и значение. Ако питате мен, цялата им организация се състои единствено от Пьотър Верховенски, който пък е тъй любезен да се представя само за агент на самия себе си. Впрочем основната идея не е по-глупава от всички останали подобни идеи. Имат връзки с Internationale; съумяха да завъдят агенти в Русия, налучкаха дори един твърде оригинален начин… Но, разбира се, само теоретически. Що се отнася до тукашните им намерения, развитието на нашите руски работи е такова мътно нещо и почти винаги толкова неочаквано, че у нас наистина всичко може да се изпробва. Забележете, че Верховенски е настойчив човек.
— Тая дървеница, тоя невежа, тоя глупак, който не знае нищо за Русия! — злобно извика Шатов.
— Вие малко го познавате. Вярно е, че те малко познават Русия, но всъщност почти колкото и ние с вас, разликата е много малка: и при това Верховенски е ентусиаст.
— Верховенски ентусиаст?
— О, да. Има една черта, отвъд която той престава да бъде шут и се превръща в… смахнат. Ще ви помоля да си спомните своя собствен израз: „Знаете ли колко силен може да бъде един човек?“ Моля ви, не се смейте, той е навярно в състояние да натисне спусъка. Те са сигурни, че и аз съм шпионин. Поради неумението си да движат нещата те ужасно обичат да обвиняват в шпионство.
— Но нали вие не се боите?
— Н-не… Не ме е много страх… Но вашата работа е съвсем друга. Предупреждавам ви, имайте го предвид все пак. Според мен тук няма място за обиди, че опасността, видите ли, изхождала от едни глупаци; работата не е в ума им: вдигали са ръка и на по-големи от вас. А впрочем, единайсет и четвърт — погледна той часовника и стана от стола, — иска ми се да ви задам още един, съвсем страничен въпрос.
— За бога! — възкликна Шатов, скачайки от мястото си.
— Тоест? — въпросително погледна Николай Всеволодович.
— Питайте, питайте, за бога — с неописуемо вълнение повтаряше Шатов, — но при условие че и аз ще ви задам един въпрос. Моля ви, ще позволите… аз не мога… питайте!
Ставрогин изчака малко и почна:
— Чух, че сте имали тук известно влияние над Маря Тимофеевна и че тя обичала да ви вижда и слуша. Така ли е?
— Да… слушаше ме… — посмути се Шатов.
— Аз възнамерявам тези дни публично да обявя брака си с нея.
— Нима това е възможно? — прошепна почти ужасен Шатов.
— Тоест в какъв смисъл? Няма никакви затруднения; свидетелите на брака са тук. Тогава в Петербург всичко стана по най-законния и спокоен начин и ако не се е знаело до днес, то е само защото двамата единствени свидетели на брака — Кирилов и Пьотър Верховенски, и най-сетне самият Лебядкин (когото имам удоволствието да считам вече за роднина) дадоха тогава дума да мълчат.
— Аз не за това… Казвате го толкова спокойно… но продължавайте! Слушайте, нали не са ви принудили за този брак, не, нали?
— Не, никой не ме е принуждавал — усмихна се Николай Всеволодович на предизвикателната припряност на Шатов.
— Ами онова, дето го разправя за детето си? — трескаво и без всякаква връзка припираше Шатов.
— За детето си ли разправя? А! Това не го знаех, за първи път чувам. Тя не е имала дете и не би могла: Маря Тимофеевна е девица.
— А! Тъй си и мислех! Слушайте!
— Какво ви е, Шатов?
Шатов закри лицето си с длани, извърна се, но внезапно здраво сграбчи Ставрогин за рамото.
— Знаете ли — викна той, — знаете ли поне защо сте направили всичко това и защо поемате сега този кръст?
— Въпросът ви е умен и язвителен, но и аз възнамерявам да ви учудя: да, почти знам защо се ожених тогава и защо сега поемам тоя „кръст“, както благоволихте да се изразите.
— Да оставим това… за това после, почакайте с приказките, нека за главното, за главното: аз от две години ви чакам.
— Тъй ли?
— Аз много отдавна ви чакам, аз непрекъснато мисля за вас. Вие сте едничкият човек, който би могъл… Още от Америка ви го писах.
— Отлично помня дългото ви писмо.
— Твърде дълго, за да го прочетете! Прав сте; шест пощенски листа. Мълчете, мълчете! Кажете: можете ли да ми отделите още десет минутки, но още сега, в момента… Аз твърде дълго съм ви чакал!
— Моля, ще ви отделя половин час, но не повече, ако нямате нищо против.
— Но при условие — подхвана гневно Шатов, — че ще смените тоя тон. Чувате ли, настоявам, когато би трябвало да моля… Разбирате ли какво значи да настояваш, когато би трябвало да молиш?
— Разбирам, че по такъв начин вие се издигате над всичко обикновено заради едни по-висши цели — едва доловимо се усмихна Николай Всеволодович, — и също така с прискърбие виждам, че имате треска.
— Моля за уважение, не, настоявам — викаше Шатов — за уважение не към моята личност — мене кучета ме яли, — а към другото, и то само за момента, докато ви кажа тия няколко думи!… Ние сме две същества и се срещнахме в безкрая… за последен път на тоя свят. Оставете вашия тон, заговорете човешки! Поне веднъж в живота си заговорете с човешки глас. Не заради мене, а заради себе си. Вие разбирате ли, че трябва да ми простите тази плесница, та макар само заради това, че ви дадох възможност да разберете безпределната си сила… Пак се усмихвате с вашата гнусливо-светска усмивка. О, кога ще ме разберете! Зарежете господарските си навици! Разберете най-сетне, че аз настоявам, настоявам, иначе няма, за нищо на света няма да говоря!
Истериката му преминаваше в бълнуване; Николай Всеволодович се намръщи и стана някак по-внимателен.
— Ако останах за още половин час — внушително и сериозно промълви той, — при все че времето ми е толкова скъпо, повярвайте, че възнамерявам да ви слушам най-малкото с интерес и… и съм убеден, че ще чуя от вас много и интересни неща.
Той седна на стола.
— Седнете! — кресна Шатов и някак внезапно седна и той.
— Позволете обаче да ви напомня — отново се сети Ставрогин, — че бях започнал с една голяма молба относно Маря Тимофеевна, крайно важна, във всеки случай поне за нея…
— Е? — начумери се внезапно Шатов с вид на човек, когото са прекъснали на най-важното място и който, макар и да ви гледа, все още не е успял да разбере вашия въпрос.
— И вие не ме оставихте да се доизкажа — с усмивка завърши думите си Николай Всеволодович.
— Хайде сега, глупости, после! — пренебрежително махна с ръка Шатов, схващайки най-после претенцията, и веднага мина към своята главна тема.
VII
— Известно ли ви е на вас — почна той почти заплашително, навеждайки се напред от стола, святкайки с очи и заканително вдигайки пръста на дясната си ръка (очевидно без да го забелязва), — известно ли ви е кой е сега на цялата тази земя единственият народ „богоносец“, комуто е съдено да обнови и спаси света с името на новия бог и комуто единствено са връчени ключовете на живота и грядущето слово?… Известно ли ви е кой е този народ и как се той зове?
— Съдейки по начина, по който ми говорите, аз съм принуден да заключа, и то колкото може по-бързо, че този народ е руският…
— И вече се смеете, о, хора, хора! — подскочи Шатов.
— Успокойте се, моля ви; напротив, аз очаквах тъкмо нещо подобно.
— Очаквали сте нещо подобно, а? А на самия вас тия думи са ви непознати, а?
— Напротив, дори вече виждам накъде клоните. Цялата ви фраза и дори изразът народ „богоносец“ е просто заключение на разговора ни, който се състоя преди повече от две години в странство, малко преди да заминете за Америка… Поне доколкото сега си спомням.
— Тази фраза е изцяло ваша, а не моя. Ваша собствена, а не просто заключението на нашия разговор. „Наш“ разговор не е имало; имаше само учител, който изричаше велики думи, и имаше един възкръснал от мъртвите ученик. Аз съм този ученик, а вие сте учителят.
— Но ако трябва да напомня, вие тъкмо след моите думи влязохте в организацията и чак тогава заминахте за Америка.
— Да, и ви писах за това от Америка; за всичко ви писах. Да, аз не можах веднага да изтръгна от себе си онова, с което се бях сраснал от детинство, по което бяха отишли всичкият възторг на моите надежди и всичките сълзи на моята омраза…
Мъчно се менят боговете. Тогава аз не ви повярвах, защото не исках да вярвам, и за последен път се вкопчих в тази помийна клоака… Но семето остана и покара. Сериозно, кажете ми сериозно, дочетохте ли писмото ми от Америка? Може би дори изобщо не сте го чели?
— Прочетох три страници, първите две и последната, и освен това бегло прегледах средата. Впрочем все се канех…
— Нищо, няма значение, стига, по дяволите! — махна с ръка Шатов. — Ако сега сте се отрекли от тогавашните си думи за народа, как сте могли да ги произнесете тогава?… Това е, което не ми дава мира сега.
— И тогава не съм се шегувал с вас; убеждавайки вас, аз може би съм мислел повече за себе си, отколкото за вас — загадъчно каза Ставрогин.
— Не сте се шегували! В Америка три месеца лежах в калта заедно с един… нещастник и от него научих, че в същото това време, когато сте насаждали у мен идеите за бога и родината — в същото това време, може би дори в същите тези дни, сте влели в сърцето на този нещастник, на този маниак Кирилов отрова… Насаждали сте в него лъжа и клевета и сте го докарали до умопомрачение… Идете го вижте сега, това е ваше създание… Впрочем видели сте го.
— Първо, ще ви забележа, че самият Кирилов току-що ми каза, че бил щастлив, че бил прекрасен. Предположението ви, че всичко това е ставало по едно и също време, е почти вярно; е, и какво от това? Пак повтарям — не съм ви лъгал, нито вас, нито него.
— Атеист ли сте? Сега сте атеист, нали?
— Да.
— А тогава?
— Точно колкото и сега.
— Започвайки този разговор, ви помолих за малко уважение, и то не към моята личност; с вашия ум бихте могли да го разберете — с негодувание измърмори Шатов.
— Ако още при първите ви думи не станах, не прекратих разговора, не си отидох, а все още седя и послушно отговарям на въпросите и… крясъците ви, ще рече, още не съм нарушил уважението си към вас.
Шатов го прекъсна, махна с ръка:
— Помните ли онзи свой израз: „Атеистът не може да бъде руснак, атеистът тутакси престава да е руснак“, помните ли го?
— Да? — като да запита Николай Всеволодович.
— Вие ме питате? Забравили ли сте го? А между другото, това е едно от най-точните определения на една от най-главните особености на руския дух, доловена от вас. Не може да сте го забравили това. Ще ви напомня и това, че пак тогава вие казвахте: „Неправославният не може да бъде руснак.“
— Смятам, че това е славянофилска мисъл.
— Не; днешните славянофили ще я отхвърлят. Сега хората са поумнели. Но вие отивахте още по-нататък: вие вярвахте, че римският католицизъм не е вече християнство; твърдяхте, че Рим е провъзгласил онзи Христос, който се е поддал на третото изкушение на дявола, и че възвестявайки на света, че Христос не може да пребъде на земята без земното си царство, католицизмът е провъзгласил по този начин антихриста и така е погубил целия западен свят. Именно вие изтъквахте, че ако Франция страда, то е единствено по вина на католицизма, защото е отхвърлила мръсния римски бог, а нов не е намерила. Ето как можехте да говорите тогава! Аз помня разговорите ни.
— Ако бях вярващ, без съмнение и сега бих повторил това; не съм ви лъгал, говорейки ви като вярващ — много сериозно каза Николай Всеволодович. — Но ви уверявам, че това повторение на някогашните ми мисли ми прави твърде неприятно впечатление. Не можете ли да престанете?
— Ако сте били вярващ? — кресна Шатов, не обръщайки ни най-малко внимание на молбата му. — Но не бяхте ли вие онзи, който ми казваше, че дори ако математически ви се докаже, че истината е извън Христос, вие сте щели да предпочетете да останете с Христос, а не с истината? Казвахте ли го това? Казвахте ли го?
— Но позволете ми най-сетне и аз да попитам — повиши глас Ставрогин, — накъде води това нетърпеливо и… злобно изпитване?
— Това изпитване ще потъне във вечността и повече никога няма да ви се напомни.
— Вие все още настоявате, че сме извън пространството и времето…
— Мълчете! — кресна внезапно Шатов. — Аз съм глупав и недодялан, но поврага тоя смешен Шатов! Ще позволите ли обаче да ви повторя цялата ви тогавашна най-главна мисъл… О, само десет реда, само заключението…
— Повторете, щом е само заключението…
Ставрогин понечи да погледне часовника си, но се сдържа и не го погледна.
Шатов отново се наведе напред и насмалко отново да вдигне пръст.
— Нито един народ — почна той, сякаш четеше ред по ред и същевременно не сваляйки страшния си поглед от Ставрогин, — досега нито един народ не си е уреждал живота на началата на науката и разума; нямаме такъв пример досега! Може би само за много кратко време, от глупост. Социализмът по самата си същност е вече атеизъм и именно защото от първия си ред провъзгласява, че е атеистична организация, и възнамерява да се гради единствено на началата на науката и разума. Винаги, сега и откакто свят светува, разумът и науката са играли в живота на народите само второстепенна и служебна роля; и тъй ще си я играят вовеки веков. Народите се образуват и се развиват от друга сила, повеляваща и господстваща, но чийто произход е неизвестен и необясним. Тази сила е силата на неутолимото желание да се стигне краят и която същевременно отрича края. Това е силата на непрекъснатото и непрестанно потвърждаване на своето битие и отрицанието на смъртта; духът на живота, както е казано в Писанието, „ручеите жива вода“, с чието пресъхване ни плаши Апокалипсисът; естетическото начало, както казват философите, нравственото начало, както пак те го отъждествяват; „търсене на бога“ — както най-просто го наричам аз. Целта на всяко народно движение — у всеки народ и през всеки период на неговото битие — е единствено и само търсене на бога, на своя бог, непременно на своя собствен бог, и вярата в него — като единствено истинския бог. Бог е синтетичната личност на целия народ, взет от началото му и до края. Никога още не е бивало всички или много народи да имат един общ бог, всякога и всеки е имал своя собствен. Когато боговете започват да стават общи, това е признак за унищожение на народността. Когато боговете стават общи, умират и боговете, и вярата в тях заедно със самите народи. Колкото е по-силен един народ, толкова по-особен е неговият бог. Никога досега не е имало още народ без религия, тоест без понятие за злото и доброто. Всеки народ си има свое собствено понятие за злото и доброто и свои собствени добро и зло. Когато понятията за злото и доброто започнат да стават общи за много народи, народите отмират и самото различие между злото и доброто започва да се заличава и изчезва. Никога не е било по силите на разума да определи злото и доброто или поне приблизително да отдели злото от доброто; напротив, винаги позорно и жалко ги е смесвал, а науката е давала юмручни разрешения. С това особено се отличава полунауката — най-страшният бич за човечеството, непознат до нашето столетие, по-страшен от мора, глада и войната. Полунауката е деспот, какъвто никога не е имало досега. Деспот, който има свои жреци и роби, деспот, пред който всички са се преклонили с любов и суеверие, немислим досега, пред който трепери самата наука и позорно му приглася. Всичко това са ваши собствени думи, Ставрогин, освен думите за полунауката; те са мои, защото самият аз съм само полунаука и ще рече, особено я мразя. Във вашите мисли и дори в самите ви думи не съм променил нищо, нито думица.
— Не мисля, че не сте променили — предпазливо забележи Ставрогин, — вие пламенно сте ги приели и пламенно сте ги преиначили, без да го забележите. Дори само това, че свеждате бога до прост атрибут на народността…
Изведнъж той се вгледа в Шатов и започна да го следи внимателно, впрочем не толкова думите, колкото поведението му.
— Свеждал съм бога до атрибут на народността? — викна Шатов. — Напротив, народа издигам до самия бог. Че и бивало ли е то нявга другояче? Народът — това е тялото божие. Всеки народ е народ само дотогава, докато си има свой собствен бог и отхвърля всички останали богове на света, без каквото и да било примирение; докато вярва, че със своя бог ще победи и прогони от света всички останали богове. Тъй са вярвали всички, откак свят светува, поне всички велики народи, всички що-годе избрани народи, всички, които са стояли начело на човечеството. Не се върви срещу факта. Евреите са живели само за това, за да дочакат истинския бог, и оставиха на света един истински бог. Гърците боготворяха природата и завещаха на света своята религия, тоест философията и изкуствата. Рим обоготвори народа в държавата и завеща на народите държавата. Франция в течение на цялата си дълга история е била само едно въплъщение и развитие на идеите на римския бог и ако най-сетне захвърли в бездната своя римски бог и се впусна в атеизма, който сега-засега са нарекли социализъм, то е само защото атеизмът е все пак нещо по-здраво от римския католицизъм. Ако един велик народ не вярва, че истината е единствено в самия него (именно единствено и изключително в него), ако не вярва, че единствено той е способен и призван да възкреси и спаси всички със своята истина — той тутакси престава да е велик народ и тутакси се превръща в етнографски материал, а не във велик народ. Истински великият народ никога не може да се примири с второстепенна роля сред човечеството, та било дори и с първостепенна, а непременно и единствено само с главната. Който губи тази вяра, той вече не е народ. Но истината е една и ще рече, само един от народите може да има истински бог, макар останалите да си имат своите собствени и велики богове. Единственият народ „богоносец“ е руският народ и… и… и наистина ли, наистина ли ме смятате за такъв глупак, Ставрогин — внезапно кресна той яростно, — който дотам не може да разбере, че в тоя момент думите му са или стари изкуфели дрънканици, млени и премлени във всички московски славянофилски мелници, или съвсем нова дума, последната, единствената дума на обновлението и възкресението и… и какво ме засяга вашият смях в тоя момент! Какво ме засяга, че абсолютно не ме разбирате, абсолютно, нито дума, нито звук!… О, как презирам гордия ви смях и поглед в тоя миг!
Той скочи от мястото си; дори пяна излезе на устните му.
— Напротив, Шатов, напротив — необикновено сериозно и сдържано каза Ставрогин, без да става от мястото си, — напротив, с пламенните си думи вие възкресихте у мен множество извънредно силни спомени. В думите ви аз откривам собственото си настроение отпреди две години и сега вече няма да ви кажа като одеве, че сте преувеличили тогавашните ми мисли. Струва ми се дори че те бяха още по-изключителни, още по-самовластни, и за трети път ви уверявам, че много бих искал да потвърдя всичко, което казахте, дори до последната дума, но…
— Но ви е нужен заек?
— Какво-о?
— Един ваш подъл израз — злобно се засмя Шатов, сядайки отново, — „за да се направи сос от заек, е нужен заек, за да повярваш в бога, е нужен бог“, в Петербург сте го повтаряли, казват, като Ноздрев, който искал да хване заек за задните крака.
— Не, той се хвали, че вече го е хванал. Впрочем позволете и аз да ви обезпокоя с един въпрос, още повече имам, мисля, вече пълно право да го сторя. Кажете ми: пипнахте ли вече вашия заек, или още си припка?
— Как си позволявате да ме питате по тоя начин, инак ме попитайте, инак! — изведнъж цял се разтрепера Шатов.
— Моля! Може и инак — сурово го погледна Николай Всеволодович, — исках просто да разбера самият вие вярвате ли в бога, или не?
— Аз вярвам в Русия, вярвам в нейното православие… Вярвам в тялото Христово… Вярвам, че новото пришествие ще стане в Русия… Вярвам… — запелтечи в изстъпление Шатов.
— А в бога? В бога?
— Аз… аз ще вярвам в бога.
Нито един мускул не трепна на лицето на Ставрогин. Шатов пламенно и предизвикателно го гледаше, сякаш искаше да го изпепели с погледа си.
— Не съм ви казал, че изобщо не вярвам! — извика той накрая. — Само ви дадох да разберете, че съм една нещастна, скучна книга и нищо повече засега, засега… но поврага Шатов! Работата не е в мен, а във вас… Аз съм човек без талант и мога само да дам живота си и нищо повече, като всеки човек без талант. Поврага тоя моя живот! Аз за вас говоря, вас ви чакам тука от две години… За вас си дера ризата от половин час насам. Вие, вие, само вие бихте могли да вдигнете това знаме!…
Той не завърши и сякаш в отчаяние отпусна лакти на масата и подпря главата си с две ръце.
— Само между другото искам да ви обърна внимание върху нещо много странно — прекъсна го внезапно Ставрогин, — от къде на къде всички ми натрапват някакво знаме? Пьотър Верховенски също е убеден, че съм можел „да вдигна тяхното знаме“, поне тъй ми предадоха думите му. Втълпил си е, че съм можел да изиграя за тях ролята на Стенка Разин „поради необикновената си способност към престъпление“ — също негови думи.
— Какво? — попита Шатов. — „Поради необикновената ви способност към престъпление“?
— Именно.
— Хм! Ами вярно ли, че вие — злобно се усмихна той, — вярно ли, че в Петербург сте влизали в едно тайно скотско сладострастно сдружение? Вярно ли, че маркиз Дьо Сад би могъл да се поучи от вас[24]? Вярно ли, че сте подмамвали и развращавали деца? Говорете, и да не сте посмели да излъжете — кресна той, напълно излязъл от кожата си. — Николай Ставрогин не може да лъже пред Шатов, който го е ударил по лицето! Говорете, и ако всичко това е вярно, аз тутакси, още сега ще ви убия тук на място!
— Това съм го казвал, но на деца не съм посягал — произнесе Ставрогин, но след твърде продължително мълчание. Беше пребледнял и очите му припламваха.
— Но сте го казвали! — властно продължаваше Шатов, не сваляйки от него святкащ поглед. — Вярно ли, че уж сте намирали красота и в сладострастното зверство, и в който и ще да е подвиг, та било то да пожертваш живота си за човечеството? Вярно ли, че според вас красотата съвпадала на двата полюса, че насладата била еднаква.
— Така е невъзможно да се отговаря… аз не искам да отговарям — измърмори Ставрогин, който много лесно би могъл да стане и да си отиде, но не ставаше и не си отиваше.
— Аз също не зная защо злото е лошо, а доброто прекрасно, но аз знам защо усещането за това различие се заличава и изчезва у господа като ставрогиновци — не мирясваше Шатов, който цял трепереше. — Знаете ли защо сте се оженили тогава тъй подло и позорно? Именно защото и тук позорът и безсмислицата стигат до гениалност! О, вие не заобикаляте по края, а смело летите надолу с главата. Оженили сте се от страст към мъчението, от страст към угризенията на съвестта, от нравствено сладострастие. Тук има нервен срив… Предизвикателството към здравия смисъл е било твърде прелъстително! Ставрогин и жалката, полуумна, кьопавата просякиня! Когато ухапахте губернатора за ухото, изпитахте ли сладострастие? Изпитахте ли? Празно, разюздано, господарско копеле, изпитахте ли?
— Вие сте психолог — все повече и повече побледняваше Ставрогин, — макар че за причините за моя брак отчасти сбъркахте… Кой впрочем би могъл да ви даде всичките тия сведения — усмихна се той насила, — мигар Кирилов? Но той не участваше…
— Вие побледнявате?
— Какво всъщност искате от мен? — повиши най-сетне глас Николай Всеволодович. — От половин час търпя вашия камшик и можехте поне да ме изпратите вежливо… ако, разбира се, нямате някаква разумна цел да постъпвате с мен именно така.
— Разумна цел ли?
— Безспорно. И бяхте длъжен поне да ми съобщите най-накрая тази ваша цел. Откога чакам да го направите, но виждам само едно злобно ожесточение. Моля, отворете ми вратата.
Той стана от стола. Шатов яростно се хвърли подире му.
— Целувайте земята, облейте я със сълзи, молете за прошка! — кресна той, хващайки го за рамото.
— Аз обаче не ви убих… онази сутрин… а прибрах ръцете си отзад… — почти с болка проговори Ставрогин, навеждайки поглед.
— Продължете, продължете! Дойдохте да ме предупредите за опасността, оставихте ме да говоря, искате утре да обявите публично за брака си!… Мигар не виждам по лицето ви, че ви гнети някаква страшна, нова мисъл… Ставрогин, защо съм обречен да ви вярвам вовеки веков? Мигар бих могъл да говоря така с някой друг? Аз съм целомъдрен, но не се уплаших да се разголя, защото разговарях със Ставрогин. Не се уплаших да изкарикатуря великата мисъл с докосванията си, защото ме слушаше Ставрогин… Мигар няма да целувам стъпките ви, когато си отидете? Аз не мога да ви изтръгна от сърцето си, Николай Ставрогин!
— Съжалявам, че и аз не мога да ви обичам, Шатов — хладно каза Николай Всеволодович.
— Знам, че не можете, и знам, че ме лъжете. Чувайте, аз мога да поправя всичко: аз ще ви намеря заека!
Ставрогин мълчеше.
— Вие сте атеист, защото сте господар, последният господар. Загубили сте чувството за разлика между злото и доброто, защото сте престанали да разбирате народа си. Идва поколение право от недрата на народа и вече изобщо няма да го разберете нито вие, нито Верховенски — и баща, и син, нито аз, защото и аз съм господарче, аз, синът на Пашка, вашият крепостен лакей… Чуйте, открийте бога в труда — туй е същността, или ще изчезнете като нищожна плесен; в труда го открийте.
— В труда ли? В кой труд?
— В мужишкия. Идете, зарежете богатствата си… А! Смешно ви е, страх ви е, че ще излезе фокус?
Но Ставрогин не се смееше.
— Значи, смятате, че бог може да се открие в труда и именно в мужишкия? — повтори той, замисляйки се, сякаш действително се бе натъкнал на нещо ново и сериозно, което заслужаваше да се обмисли. — Впрочем — премина той внезапно към друга мисъл — сега ми напомнихте: знаете ли, че аз никак не съм богат, тъй че няма какво да зарязвам? Аз почти не съм в състояние да осигуря дори бъдещето на Маря Тимофеевна… И още нещо: бях дошъл да ви помоля, ако ви е възможно, и занапред да не изоставяте Маря Тимофеевна, тъй като единствено вие бихте могли да имате известно влияние над бедния й разум… Казвам го за всеки случай.
— Браво, браво, че се сетихте и за Маря Тимофеевна — замаха с една ръка Шатов, като държеше в другата свещта, — но това после, то се разбира от само себе си… Чувайте, идете при Тихон.[25]
— При кого?
— При Тихон. Тихон е бивш архиерей, болен е и затова живее тук в чертите на града, в нашия Ефимиевско-Богородски манастир.
— И какво прави той?
— Нищо. Ходят при него откъде ли не. Идете; какво ви коства? Тъй де, какво ви коства?
— За пръв път чувам и… досега никога не съм виждал хора от тоя сорт. Благодаря ви, ще ида.
— Насам — осветяваше Шатов стълбището, — вървете — отвори той вратичката към улицата.
— Аз вече няма да дойда при вас, Шатов — тихо каза Ставрогин, прекрачвайки навън.
Мракът се беше сгъстил и продължаваше да вали.
Часть вторая
Глава первая
Ночь
I
Прошло восемь дней. Теперь, когда уже всё прошло и я пишу хронику, мы уже знаем, в чем дело; но тогда мы еще ничего не знали, и естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я-то кой-куда еще выходил и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог.
Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи, то есть насчет пощечины, обморока Лизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то: через кого это всё могло так скоро и точно выйти наружу? Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было; один Лебядкин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге (а страх к врагу уничтожает и злобу к нему), а единственно по невоздержанности. Но Лебядкин, вместе с сестрицей, на другой же день пропал без вести; в доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марье Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но уверенный, по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив, по-видимому, с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос: «Шатова дома нет». Я с тем и ушел.
Мы со Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились наконец на одной мысли: мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, хотя сам он некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известною до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что еще замечательно: на второй же день, в понедельник ввечеру, я встретил Липутина, и он уже знал всё до последнего слова, стало быть, несомненно, узнал из первых.
Многие из дам (и из самых светских) любопытствовали и о «загадочной хромоножке» — так называли Марью Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидать ее лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать Лебядкиных, очевидно, поступили и кстати. Но на первом плане все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны, и этим интересовался «весь свет», уже по тому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего не болтали! Болтовне способствовала и таинственность обстановки: оба дома были заперты наглухо; Лизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке; то же утверждали и о Николае Всеволодовиче, с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас, может быть, будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль эта нравилась; но большинство нашей светской молодежи выслушивало всё это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется напускного. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно, осторожные люди сдерживались, но все, однако же, слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно ввиду дальнейших событий моего рассказа. Именно: говорили иные, хмуря брови и бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он чрез графа К. вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтоб официально, а, так сказать, конфиденциально и что в таком случае самою службой требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект; у нас известно было, что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени, при первом появлении Николая Всеволодовича; но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел, четыре с лишком года тому назад то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде, в начале моего рассказа.
Всем тотчас же стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит и что у крыльца дома ей объявили, что «по нездоровью не могут принять». Также и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны нарочного. Наконец, принялась везде «защищать» Варвару Петровну, конечно лишь в самом высшем смысле, то есть, по возможности, в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни, в ее присутствии, они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонней, а как соучастнице. Замечу кстати, что она начала уже приобретать у нас, помаленьку, то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя «окруженною». Часть общества признала за нею практический ум и такт… но об этом после. Ее же покровительством объяснялись отчасти и весьма быстрые успехи Петра Степановича в нашем обществе, — успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича.
Мы с ним, может быть, и преувеличивали. Во-первых, Петр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом, в первые же четыре дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым, по характеру его, довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно, до того, что тотчас же стал в положение близкого или, так сказать, обласканного молодого человека; обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с нею еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходительства действительно заключалось нечто любопытное. Все-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, «что можно даже из газет доказать», как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников, теперь, увы, отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял, однако же, факт: бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями; стало быть, ничего, может, и не было. Липутин шепнул мне раз, что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами, по крайней мере привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своем, что и граф К. хорошо знает Петра Степановича, чрез Николая Всеволодовича, обласкал его и находит «достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения». Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с «высшим миром» и, уж конечно, была рада письму важной старушки; но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамилиарные, так что господин фон Лембке жаловался… но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего; но я объяснил себе иначе: зазывая к себе нигилиста, господин Кармазинов, уж конечно, имел в виду сношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшею революционною молодежью и, воображая, по незнанию дела, что в руках ее ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания.
II
Петр Степанович забежал раза два и к родителю, и, к несчастию моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то неслышно и невидно. Варвара Петровна взяла всё на себя и всё выплатила, разумеется приобретя землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том, что всё кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорович, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя как никогда прежде, стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счел бы чудом, а главное, стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие, это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала, впрочем, был болен, особенно в понедельник; была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог во всё время; но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком все-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня, после свиданий, он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе; но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным.
Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйдя из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву.
— Cher, я бы их разгромил! — вырвалось у него в четверг вечером, после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване, с головой, обернутою полотенцем.
До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной.
— «Fils, fils chéri»[1] и так далее, я согласен, что все эти выражения вздор, кухарочный словарь, да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в —скую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее, я согласен… «Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил». Но, несчастный, кричу ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте! Il rit.[2] Но я согласен, согласен… пусть по почте, — закончил он как в бреду.
— Passons,[3] — начал он опять через пять минут. — Я не понимаю Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном, c’est le mot.[4] Посмотрите на них внимательно: они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце, они счастливы, они победители! Какой тут Байрон!… И притом какие будни! Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жаждишка faire du bruit autour de son nom,[5] не замечая, что son nom… О карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь? Il rit. Il rit beaucoup, il rit trop.[6] У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Il rit toujours.[7]
Опять наступило молчание.
— Они хитры; в воскресенье они сговорились… — брякнул он вдруг.
— О, без сомнения, — вскричал я, навострив уши, — всё это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно.
— Я не про то. Знаете ли, что всё это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те… кому надо. Понимаете это?
— Нет, не понимаю.
— Tant mieux. Passons.[8] Я очень раздражен сегодня.
— Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? — проговорил я укоризненно.
— Je voulais convertir.[9] Конечно, смейтесь. Cette pauvre тетя, elle entendra de belles choses![10] О друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом! Впрочем, я всегда сознавал себя русским… да настоящий русский и не может быть иначе, как мы с вами. Il y a là dedans quelque chose d’aveugle et de louche.[11]
— Непременно, — ответил я.
— Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем, в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал.
Я промолчал. Он тоже очень долго молчал.
— Говорят, французский ум… — залепетал он вдруг точно в жару, — это ложь, это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Ils sont tout simplement des paresseux,[12] а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты! Мы вовсе, вовсе не к тому стремились; я ничего не понимаю. Я перестал понимать! Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее! Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance.[13] Эти телеги, или как там: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там… une bêtise dans ce genre.[14] Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же, необходимо и несчастие! Il rit. Ты, говорит, здесь бонмо отпускаешь, «нежа свои члены (он пакостнее выразился) на бархатном диване…». И заметьте, эта наша привычка на ты отца с сыном: хорошо, когда оба согласны, ну, а если ругаются? С минуту опять помолчали.
— Cher, — заключил он вдруг, быстро приподнявшись, — знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится?
— Уж конечно, — сказал я.
— Vous ne comprenez pas. Passons.[15] Но… обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец, непременно, непременно!
Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него.
В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина, и тут же, как-то к разговору, узнал от него, что Лебядкины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в Горшечной слободке. «Я же и перевозил», — прибавил Липутин и, прервав о Лебядкиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича, и хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. Назавтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Всё это я передал Степану Трофимовичу; он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебядкиных.
А теперь, описав наше загадочное положение в продолжение этих восьми дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, с знанием дела, в том виде, как всё это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что, в сущности, с этого вечера и началась «новая история».
III
Было семь часов вечера, Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете — комнате, им еще прежде излюбленной высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен; лицо усталое и несколько похудевшее. Болен он был действительно флюсом; но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп; была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который, однако же, по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец в понедельник, возвратясь поутру после своей трехдневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юлии Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета; она давно желала их свиданья, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Nicolas и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на два.
— Nicolas, могу я ввести к тебе Петра Степановича? — тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы.
— Можно, можно, конечно можно! — громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своею рукой и вошел.
Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось: угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.
— Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться, — торопливо, с удивительною наивностью прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом уставился на пресс-папье и на угол письма.
— И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо, — спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места.
— Письмо? Бог с вами и с вашим письмом, мне что! — воскликнул гость, — но… главное, — зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой, и кивая в ту сторону головой.
— Она никогда не подслушивает, — холодно заметил Николай Всеволодович.
— То есть если б и подслушивала! — мигом подхватил, весело возвышая голос и усаживаясь в кресло, Петр Степанович. — Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине… Ну, наконец-то я к вам добился! Прежде всего, как здоровье? Вижу, что прекрасно, и завтра, может быть, вы явитесь, — а?
— Может быть.
— Разрешите их наконец, разрешите меня! — неистово зажестикулировал он с шутливым и приятным видом. — Если б вы знали, что я должен был им наболтать. А впрочем, вы знаете. — Он засмеялся.
— Всего не знаю. Я слышал только от матери, что вы очень… двигались.
— То есть я ведь ничего определенного, — вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения, — знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай в воскресенье… вы не сердитесь?
— Убежден, что вы очень старались.
— Ну, я только этого и боялся. А впрочем, что ж это значит: «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем, вы прямо ставите, я всего больше боялся, идя сюда, что вы не захотите прямо поставить.
— Я ничего и не хочу прямо ставить, — проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся.
— Я не про то; не про то, не ошибитесь, не про то! — замахал руками Петр Степанович, сыпля словами как горохом и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина. — Я не стану вас раздражать нашим делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае, и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь, главное, я, а не вы, — это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел, чтобы быть с этих пор всегда откровенным.
— Стало быть, прежде были неоткровенны?
— И вы это знаете сами. Я хитрил много раз… вы улыбнулись, очень рад улыбке, как предлогу для разъяснения; я ведь нарочно вызвал улыбку хвастливым словом «хитрил», для того чтобы вы тотчас же и рассердились: как это я смел подумать, что могу хитрить, а мне чтобы сейчас же объясниться. Видите, видите, как я стал теперь откровенен! Ну-с, угодно вам выслушать?
В выражении лица Николая Всеволодовича, презрительно спокойном и даже насмешливом, несмотря на всё очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностию своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей, выразилось наконец несколько тревожное любопытство.
— Слушайте же, — завертелся Петр Степанович пуще прежнего. — Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я, конечно, решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо; но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая средина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?
— Что ж, может быть и так, — чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович.
— А, вы согласны — очень рад; я знал вперед, что это ваши собственные мысли… Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы: «Нет, дескать, вы не бездарны, нет, дескать, вы умны»… А, вы опять улыбаетесь!… Я опять попался. Вы не сказали бы: «вы умны», ну и положим; я всё допускаю. Passons, как говорит папаша, и, в скобках, не сердитесь на мое многословие. Кстати, вот и пример: я всегда говорю много, то есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность, — не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать; но ведь молчать — большой талант, и, стало быть, мне неприлично, а во-вторых, молчать все-таки ведь опасно; ну, я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно по-бездарному, то есть много, много, много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоняты — все три выгоды разом! Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится на того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу — а это уж драгоценно. Да они мне теперь всё простят уже за то одно, что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете.
Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а, напротив, слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо.
— А? Что? Вы, кажется, сказали «всё равно»? — затрещал Петр Степанович (Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил). — Конечно, конечно; уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы; я к вам прибежал с открытою и веселою душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите; уверяю же вас, что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен!
Николай Всеволодович упорно молчал.
— А? Что? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил; вы не предлагали условий, да и не предложите, верю, верю, ну успокойтесь; я и сам ведь знаю, что мне не стоит их предлагать, так ли? Я за вас вперед отвечаю и — уж конечно, от бездарности; бездарность и бездарность… Вы смеетесь? А? Что?
— Ничего, — усмехнулся наконец Николай Всеволодович, — я припомнил сейчас, что действительно обозвал вас как-то бездарным, но вас тогда не было, значит, вам передали… Я бы вас просил поскорее к делу.
— Да я ведь у дела и есть, я именно по поводу воскресенья! — залепетал Петр Степанович. — Ну чем, чем я был в воскресенье, как по-вашему? Именно торопливою срединною бездарностию, и я самым бездарнейшим образом овладел разговором силой. Но мне всё простили, потому что я, во-первых, с луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено; а во-вторых, потому, что милую историйку рассказал и всех вас выручил, так ли, так ли?
— То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было, и я вас ровно ни о чем не просил.
— Именно, именно! — как бы в восторге подхватил Петр Степанович. — Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили; я ведь для вас, главное, и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь.
— Любопытно, почему вы так теперь откровенны?
— Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами… Впрочем, вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что всё теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем.
— Переменили тактику?
— Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля, то есть хотите сказать да, а хотите — скажете нет. Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье; я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно, хотя тот, кто так торопится, конечно, бездарен, не правда ли? Всё равно, пусть бездарен, а я серьезно, серьезно.
Он действительно проговорил серьезно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством.
— Вы говорите, что обо мне мысли переменили? — спросил он.
— Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад, и довольно, довольно, пожалуйста, без вопросов, больше ничего теперь не скажу.
Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов; но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресла, несколько успокоившись.
— Кстати, в скобках, — затараторил он тотчас же, — здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила… Довольно, довольно об этом, я только, чтоб известить. Кстати опять: я Лебядкиных в тот же день переправил, вы знаете; получили мою записку с их адресом?
— Получил тогда же.
— Это уж не по «бездарности», это я искренно, от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно.
— Да, ничего, может, так и надо… — раздумчиво промолвил Николай Всеволодович. — Только записок больше ко мне не пишите, прошу вас.
— Невозможно было, всего одну.
— Так Липутин знает?
— Невозможно было; но Липутин, сами знаете, не смеет… Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим, а то вы опять лыко в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут, разиня рты, как галчаты в гнезде, какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Виргинский — общечеловек, Липутин — фурьерист, при большой наклонности к полицейским делам; человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости; и, наконец, тот, с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И, знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе! А сходить надо непременно.
— Вы там каким-нибудь шефом меня представили? — как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него.
— Кстати, — подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая, — я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить.
— Воображаю.
— Нет, не воображайте, я просто говорил, что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она на другой день уже знала, что я Марью Тимофеевну за реку переправил; это вы ей сказали?
— Не думал.
— Так и знал, что не вы. Кто ж бы мог, кроме вас? Интересно.
— Липутин, разумеется.
— Н-нет, не Липутин, — пробормотал, нахмурясь, Петр Степанович, — это я знаю, кто. Тут похоже на Шатова… Впрочем, вздор, оставим это! Это, впрочем, ужасно важно… Кстати, я всё ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос… Ах да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю — вся так и сияет. Это что же?
— Это она потому, что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься, — проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданною откровенностию.
— А, ну… да, конечно, — пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись, — там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так?
— Нет, не сержусь.
— Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить, и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверно, много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так?
Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича.
— Кстати, это вы серьезно мамаше насчет Лизаветы Николаевны? — спросил он.
Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него.
— А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да.
— А если бы серьезно? — твердо спросил Николай Всеволодович.
— Что ж, и с богом, как в этих случаях говорится, делу не повредит (видите, я не сказал: нашему делу, вы словцо наше не любите), а я… а я что ж, я к вашим услугам, сами знаете.
— Вы думаете?
— Я ничего, ничего не думаю, — заторопился, смеясь, Петр Степанович, — потому что знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали и что у вас всё придумано. Я только про то, что я серьезно к вашим услугам, всегда и везде и во всяком случае, то есть во всяком, понимаете это?
Николай Всеволодович зевнул.
— Надоел я вам, — вскочил вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем всё еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора ударяя себя шляпой по коленке.
— Я думал еще повеселить вас Лембками, — весело вскричал он.
— Нет уж, после бы. Как, однако, здоровье Юлии Михайловны?
— Какой это у вас у всех, однако, светский прием: вам до ее здоровья всё равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает. О воскресном случае молчит и уверена, что вы всё сами победите одним появлением. Ей-богу, она воображает, что вы уж бог знает что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще чем когда-нибудь — чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал — было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К. боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона? Я поддакиваю, вы не сердитесь?
— Ничего.
— Это ничего; это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю; Юлия Михайловна во главе, Гаганов тоже… Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой: я вру, вру, а вдруг и умное слово скажу, именно тогда, когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули; «со способностями, говорят, но с луны соскочил». Лембке меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то есть компрометирую, так и лупит глаза. Юлия Михайловна поощряет. Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно. Я ему тотчас же всю правду, то есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имение, хороший дом.
— Так он разве и теперь в Духове? — вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперед.
— Нет, меня же и привез сюда давеча утром, мы вместе воротились, — проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. — Что это, я книгу уронил, — нагнулся он поднять задетый им кипсек. — «Женщины Бальзака», с картинками, — развернул он вдруг, — не читал. Лембке тоже романы пишет.
— Да? — спросил Николай Всеволодович, как бы заинтересовавшись.
— На русском языке, потихоньку разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак; впрочем, с приемами; у них это выработано. Экая строгость форм, экая выдержанность! Вот бы нам что-нибудь в этом роде.
— Вы хвалите администрацию?
— Да еще же бы нет! Единственно, что в России есть натурального и достигнутого… не буду, не буду, — вскинулся он вдруг, — я не про то, о деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зеленый.
— Лихорадка у меня.
— Можно поверить, ложитесь-ка. Кстати: здесь скопцы есть в уезде, любопытный народ… Впрочем, потом. А впрочем, вот еще анекдотик: тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б—цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez?[16] Об атеизме говорили и, уж разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?». Взял фуражку, развел руки и вышел.
— Довольно цельную мысль выразил, — зевнул в третий раз Николай Всеволодович.
— Да? Я не понял; вас хотел спросить. Ну, что бы вам еще: интересная фабрика Шпигулиных; тут, как вы знаете, пятьсот рабочих, рассадник холеры, не чистят пятнадцать лет и фабричных усчитывают; купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об Internationale[17] имеют понятие. Что, вы улыбнулись? Сами увидите, дайте мне только самый, самый маленький срок! Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу, и тогда… а впрочем, виноват, не буду, не буду, я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что ж я? — воротился он вдруг с дороги, — совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел.
— То есть? — посмотрел Николай Всеволодович, не понимая.
— То есть ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?
— Да, мне что-то давеча говорили.
— Ах, так нельзя ли сейчас!…
— Спросите у Алексея.
— Ну завтра, завтра? Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?
— Я слышал, что вы здесь, говорят, джентльменничаете? — усмехнулся Николай Всеволодович. — Правда, что вы у берейтора верхом хотите учиться?
Петр Степанович улыбнулся искривленною улыбкой.
— Знаете, — заторопился он вдруг чрезмерно, каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом, — знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчет личностей, не так ли, раз навсегда? Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно, но все-таки бы лучше без личностей несколько времени, так ли?
— Хорошо, я больше не буду, — промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид.
— Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны, как же мне о наружности не заботиться? — засмеялся он. — Это кто же, однако, вам доносит? Гм. Ровно восемь часов; ну, я в путь; я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую, а вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень, у меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно… Ах, как кстати: здесь в городе и около бродит теперь один Федька Каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность.
— Вы… с ним говорили? — вскинул глазами Николай Всеволодович.
— Говорил. От меня не прячется. На всё готовая личность, на всё; за деньги разумеется, но есть и убеждения, в своем роде конечно. Ах да, вот и опять кстати: если вы давеча серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на всё готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим услугам… Что это, вы за палку хватаетесь? Ах нет, вы не за палку… Представьте, мне показалось, что вы палку ищете?
Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг, с каким-то странным движением в лице.
— Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова, — брякнул вдруг Петр Степанович, уж прямехонько кивая на пресс-папье, — то, разумеется, я могу всё устроить и убежден, что вы меня не обойдете.
Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери.
— Я потому так, — прокричал он скороговоркой, — что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили.
Он исчез опять, не дожидаясь ответа.
IV
Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и, уж конечно бы, рад был подсмотреть, если б это было возможно. Но он очень бы обманулся: Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, по-видимому очень задумавшись; но вскоре вялая, холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под пресс-папье, но он и не пошевелился поправить.
Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Nicolas, несмотря на неуказанное время. Ей всё мерещилось: не скажет ли он наконец чего-нибудь окончательно? Тихо, как и давеча, постучалась она в дверь и, опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Nicolas сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно, он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх; она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченная, с новым тяжелым ощущением и с новою тоской.
Проспал он долго, более часу, и всё в таком же оцепенении; ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось; брови были всё так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, то, наверно бы, не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза и, по-прежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного.
Наконец раздался тихий, густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в коридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка.
— Половина десятого, — возгласил он тихим голосом и, сложив принесенное платье в углу на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку, незапечатанную, с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку.
— Передать тотчас же, как я выйду, и одеваться, — сказал он, вставая с дивана.
Заметив, что на нем легкий бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец, одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под пресс-папье спрятанное письмо, молча вышел в коридор в сопровождении Алексея Егоровича. Из коридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенные фонарик и большой зонтик.
— По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая, — доложил Алексей Егорович, в виде отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный, как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорович шел как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком.
— Не заметно ли будет? — спросил вдруг Николай Всеволодович.
— Из окошек заметно не будет, окромя того, что заранее всё предусмотрено, — тихо и размеренно ответил слуга.
— Матушка почивает?
— Заперлись, по обыкновению последних дней, ровно в девять часов и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать? — прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос.
— В час, в половине второго, не позже двух.
— Слушаю-с.
Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменкой садовой ограды и тут, в самом углу стены, отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича.
— Не заскрипела бы дверь? — осведомился опять Николай Всеволодович.
Но Алексей Егорович доложил, что вчера еще смазана маслом, «равно и сегодня». Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу.
— Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой, — не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного.
— Не беспокойся, Алексей Егорыч.
— Благослови вас бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.
— Как? — остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув в переулок.
Алексей Егорович твердо повторил свое желание; никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином.
Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка на три в грязь. Он вышел наконец в длинную и пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как пять пальцев; но Богоявленская улица была всё еще далеко. Было более десяти часов, когда он остановился наконец пред запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь, с выездом Лебядкиных, стоял совсем пустой, с заколоченными окнами, но в мезонине у Шатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу; темень была страшная, и разглядеть было мудрено; Шатов разглядывал долго, с минуту.
— Это вы? — спросил он вдруг.
— Я, — ответил незваный гость.
Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель к Кириллову.
V
Тут всё было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей куцавейке. На руках у ней был полуторагодовой ребенок, в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклоченными волосками, только что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладошки и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: «Мя, мя!». Кириллов ловил «мя» и подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими ручонками, а Кириллов бежал опять подымать. Наконец «мя» закатился под шкаф. «Мя, мя!» — кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать «мя» рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем; та тотчас же его вынесла.
— Ставрогин? — сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту. — Хотите чаю?
Он приподнялся совсем.
— Очень, не откажусь, если теплый, — сказал Николай Всеволодович, — я весь промок.
— Теплый, горячий даже, — с удовольствием подтвердил Кириллов, — садитесь: вы грязны, ничего; пол я потом мокрою тряпкой.
Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку.
— Еще? — спросил Кириллов.
— Благодарю.
Кириллов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил:
— Вы что пришли?
— По делу. Вот прочтите это письмо, от Гаганова; помните, я вам говорил в Петербурге.
Кириллов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании.
— Этого Гаганова, — начал объяснять Николай Всеволодович, — как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но, однако, неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец, сегодня приходит это письмо, какого, верно, никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями: «ваша битая рожа». Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты.
— Вы сказали, письма никто не получал, — заметил Кириллов, — в бешенстве можно; пишут не раз. Пушкин Геккерну написал. Хорошо, пойду. Говорите: как?
Николай Всеволодович объяснил, что желает завтра же и чтобы непременно начать с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, но с тем, однако, что и Гаганов, с своей стороны, обещал бы не писать более писем. Полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе.
— Слишком много уступок, не согласится, — проговорил Кириллов.
— Я прежде всего пришел узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия?
— Я понесу. Ваше дело. Но он не согласится.
— Знаю, что не согласится.
— Он драться хочет. Говорите, как драться.
— В том и дело, что я хотел бы завтра непременно всё кончить. Часов в девять утра вы у него. Он выслушает и не согласится, но сведет вас с своим секундантом, — положим, часов около одиннадцати. Вы с тем порешите, и затем в час или в два чтобы быть всем на месте Пожалуйста, постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты, и особенно вас прошу устроить так: определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу. Вот и всё, я думаю.
— Десять шагов между барьерами близко, — заметил Кириллов.
— Ну двенадцать, только не больше, вы понимаете, что он хочет драться серьезно. Умеете вы зарядить пистолет?
— Умею. У меня есть пистолеты; я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант тоже слово про свои; две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу?
— Прекрасно.
— Хотите посмотреть пистолеты?
— Пожалуй.
Кириллов присел на корточки пред своим чемоданом в углу, всё еще не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов.
— Есть всё: порох, пули, патроны. У меня еще револьвер; постойте.
Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером.
— У вас довольно оружия, и очень дорогого.
— Очень. Чрезвычайно.
Бедный, почти нищий, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями.
— Вы всё еще в тех же мыслях? — спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностию.
— В тех же, — коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие.
— Когда же? — еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.
Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.
— Это не от меня, как знаете; когда скажут, — пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностию отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.
— Я, конечно, понимаю застрелиться, — начал опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания, — я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и… смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?
— Вы называете, что это новая мысль? — проговорил Кириллов подумав.
— Я… не называю… когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.
— «Мысль почувствовали»? — переговорил Кириллов. — Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу.
— Положим, вы жили на луне, — перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, — вы там, положим, сделали все эти смешные пакости… Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?
— Не знаю, — ответил Кириллов, — я на луне не был, — прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.
— Чей это давеча ребенок?
— Старухина свекровь приехала; нет, сноха… всё равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячом. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка.
— Вы любите детей?
— Люблю, — отозвался Кириллов довольно, впрочем, равнодушно.
— Стало быть, и жизнь любите?
— Да, люблю и жизнь, а что?
— Если решились застрелиться.
— Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.
— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.
— Вы надеетесь дойти до такой минуты?
— Да.
— Это вряд ли в наше время возможно, — тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. — В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
— Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.
— Куда ж его спрячут?
— Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
— Старые философские места, одни и те же с начала веков, — с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.
— Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда! — подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.
— Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
— Да, очень счастлив, — ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?
— Гм… я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист?
— Видал.
— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист — зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет… зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Всё хорошо.
— Всё?
— Всё. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — всё хорошо. Я вдруг открыл.
— А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?
— Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!
— Когда же вы узнали, что вы так счастливы?
— На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что уже была среда, ночью.
— По какому же поводу?
— Не помню, так; ходил по комнате… всё равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.
— В эмблему того, что время должно остановиться?
Кириллов промолчал.
— Они нехороши, — начал он вдруг опять, — потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.
— Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши?
— Я хорош.
— С этим я, впрочем, согласен, — нахмуренно пробормотал Ставрогин.
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придет, и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница.
— Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
— Да, это я зажег.
— Уверовали?
— Старуха любит, чтобы лампадку… а ей сегодня некогда, — пробормотал Кириллов.
— А сами еще не молитесь?
— Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.
Глаза его опять загорелись. Он всё смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было.
— Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в бога уверуете, — проговорил он, вставая и захватывая шляпу.
— Почему? — привстал и Кириллов.
— Если бы вы узнали, что вы в бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в бога веруете, то вы и не веруете, — усмехнулся Николай Всеволодович.
— Это не то, — обдумал Кириллов, — перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин.
— Прощайте, Кириллов.
— Приходите ночью; когда?
— Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?
— Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов — и проснусь в десять часов.
— Замечательные у вас свойства, — поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович.
— Я пойду отопру ворота.
— Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов.
— А, Шатов. Хорошо, прощайте.
VI
Крыльцо пустого дома, в котором квартировал Шатов, было незаперто; но, взобравшись в сени, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин. Вдруг сверху отворилась дверь и показался свет; Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николай Всеволодович стал на пороге его комнаты, то разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании.
— Вы примете меня по делу? — спросил он с порога.
— Войдите и садитесь, — отвечал Шатов, — заприте дверь, постойте, я сам.
Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару.
— Вы меня измучили, — проговорил он потупясь, тихим полушепотом, — зачем вы не приходили?
— Вы так уверены были, что я приду?
— Да, постойте, я бредил… может, и теперь брежу… Постойте.
Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами, с краю, захватил какую-то вещь. Это был револьвер.
— В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя… У меня ни пороху, ни пуль; с тех пор так и лежит на полке. Постойте…
Он привстал и отворил было форточку.
— Не выкидывайте, зачем? — остановил Николай Всеволодович. — Он денег стоит, а завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять, вот так, садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашею женой?
— Вы сами знаете, что нет, — опять потупился Шатов.
— И не потому, что поверили глупой сплетне насчет Дарьи Павловны?
— Нет, нет, конечно, нет! Глупость! Сестра мне с самого начала сказала… — с нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой.
— Стало быть, и я угадал, и вы угадали, — спокойным тоном продолжал Ставрогин, — вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина — моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили?
Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал.
— Я угадал и не верил, — пробормотал он наконец, странно смотря на Ставрогина.
— И ударили?
Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи:
— Я за ваше падение… за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал, что ударю… Я за то, что вы так много значили в моей жизни… Я…
— Понимаю, понимаю, берегите слова. Мне жаль, что вы в жару; у меня самое необходимое дело.
— Я слишком долго вас ждал, — как-то весь чуть не затрясся Шатов и привстал было с места, — говорите ваше дело, я тоже скажу… потом…
Он сел.
— Это дело не из той категории, — начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством, — по некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.
Шатов дико смотрел на него.
— Я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, — проговорил он размеренно, — но вам, вам-то почему это может быть известно?
— Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы.
— Вы… вы член общества?
— Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали, только не этого, — чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович, — но позвольте, стало быть, вы уже знали, что на вас покушаются?
— И не думал. И теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя… хотя кто ж тут с этими дураками может в чем-нибудь заручиться! — вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу. — Я их не боюсь! Я с ними разорвал. Этот забегал ко мне четыре раза и говорил, что можно… но, — посмотрел он на Ставрогина, — что ж, собственно, вам тут известно?
— Не беспокойтесь, я вас не обманываю, — довольно холодно продолжал Ставрогин, с видом человека, исполняющего только обязанность. — Вы экзаменуете, что мне известно? Мне известно, что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашею поездкой в Америку и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился…
— Высылкой денег; подождите, — остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет, — вот, возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни. Но продолжайте, пожалуйста…
Он задыхался.
— В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном, кажется, так? Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись. Всё это, так ли, нет ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться.
— Это нелепость! — завопил Шатов. — Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем! Это мое право, право совести и мысли… Я не потерплю! Нет силы, которая бы могла…
— Знаете, вы не кричите, — очень серьезно остановил его Николай Всеволодович, — этот Верховенский такой человечек, что, может быть, нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом, в ваших же сенях, пожалуй. Даже пьяница Лебядкин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Скажите лучше: согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?
— Он согласился; он сказал, что можно и что я имею право…
— Ну, так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения; а агентов у них много, даже таких, которые и не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Петр Верховенский, между прочим, приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем, и имеет на то полномочие, а именно: истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести. Повторяю вам, что это наверно; и позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион и если еще не донесли, то донесете. Правда это?
Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном.
— Если б я и был шпион, то кому доносить? — злобно проговорил он, не отвечая прямо. — Нет, оставьте меня, к черту меня! — вскричал он, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. — Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! — вскричал он чуть не в отчаянии.
Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия.
— Извините, — действительно удивился Николай Всеволодович, — но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки.
— Вы… вы знаете… Ах, бросим лучше обо мне совсем, совсем! — оборвал вдруг Шатов. — Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните… На мой вопрос! — повторял он в жару.
— С удовольствием. Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трущобу? После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностию по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану, и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорен.
— О, у них всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии!
— Тут отчасти вы правы, отчасти нет, — продолжал с прежним равнодушием, даже вяло Ставрогин. — Сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с Internationale; они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный прием… но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас всё можно попробовать. Заметьте, что Верховенский человек упорный.
— Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! — злобно вскричал Шатов.
— Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами; и притом Верховенский энтузиаст.
— Верховенский энтузиаст?
— О да. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в… полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше: «Знаете ли, как может быть силен один человек?». Пожалуйста, не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.
— Но ведь вы не боитесь?
— Н-нет… Я не очень боюсь… Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого, — посмотрел он на часы и встал со стула, — мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос.
— Ради бога! — воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места.
— То есть? — вопросительно посмотрел Николай Всеволодович.
— Делайте, делайте ваш вопрос, ради бога, — в невыразимом волнении повторял Шатов, — но с тем, что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю, что вы позволите… я не могу… делайте ваш вопрос!
Ставрогин подождал немного и начал:
— Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это?
— Да… слушала… — смутился несколько Шатов.
— Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моем с нею.
— Разве это возможно? — прошептал чуть не в ужасе Шатов.
— То есть в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений; свидетели брака здесь. Всё это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор, то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и, наконец, сам Лебядкин (которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником) дали тогда слово молчать.
— Я не про то… Вы говорите так спокойно… но продолжайте! Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет?
— Нет, меня никто не принуждал силой, — улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова.
— А что она там про ребенка своего толкует? — торопился в горячке и без связи Шатов.
— Про ребенка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло: Марья Тимофеевна девица.
— А! Так я и думал! Слушайте!
— Что с вами, Шатов?
Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина.
— Знаете ли, знаете ли вы по крайней мере, — прокричал он, — для чего вы всё это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?
— Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить: да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую «кару» теперь, как вы выразились.
— Оставим это… об этом после, подождите говорить; будем о главном, о главном: я вас ждал два года
— Да?
— Я вас слишком давно ждал, я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек, который бы мог… Я еще из Америки вам писал об этом.
— Я очень помню ваше длинное письмо.
— Длинное, чтобы быть прочитанным? Согласен; шесть почтовых листов. Молчите, молчите! Скажите: можете вы уделить мне еще десять минут, но теперь же, сейчас же… Я слишком долго вас ждал!
— Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно.
— И с тем, однако, — подхватил яростно Шатов, — чтобы вы переменили ваш тон. Слышите, я требую, тогда как должен молить… Понимаете ли вы, что значит требовать, тогда как должно молить?
— Понимаю, что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным для более высших целей, — чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович, — я с прискорбием тоже вижу, что вы в лихорадке.
— Я уважения прошу к себе, требую! — кричал Шатов, — не к моей личности, — к черту ее, — а к другому, на это только время, для нескольких слов… Мы два существа и сошлись в беспредельности… в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному, что я дал вам случай познать при этом вашу беспредельную силу… Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймете меня! Прочь барича! Поймите же, что я этого требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что!
Исступление его доходило до бреду; Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее.
— Если я уж остался на полчаса, — внушительно и серьезно промолвил он, — тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас по крайней мере с интересом и… и убежден, что услышу от вас много нового.
Он сел на стул.
— Садитесь! — крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам.
— Позвольте, однако, напомнить, — спохватился еще раз Ставрогин, — что я начал было целую к вам просьбу насчет Марьи Тимофеевны, для нее по крайней мере очень важную…
— Ну? — нахмурился вдруг Шатов с видом человека, которого вдруг перебили на самом важном месте и который хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса.
— И вы мне не дали докончить, — договорил с улыбкой Николай Всеволодович.
— Э, ну вздор, потом! — брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив наконец претензию, и прямо перешел к своей главной теме.
VII
— Знаете ли вы, — начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою (очевидно, не примечая этого сам), — знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-«богоносец», грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова… Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?
— По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский…
— И вы уже смеетесь, о племя! — рванулся было Шатов.
— Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.
— Ждали в этом роде? А самому вам незнакомы эти слова?
— Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ-«богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку… По крайней мере, сколько я могу теперь припомнить.
— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.
— Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку.
— Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти… Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак… Но семя осталось и возросло. Серьезно, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть, не читали вовсе?
— Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю, и, кроме того, бегло переглядел средину. Впрочем, я всё собирался…
— Э, всё равно, бросьте, к черту! — махнул рукой Шатов. — Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить?… Вот что давит меня теперь.
— Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнес Ставрогин.
— Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним… несчастным, и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, — в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом… Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления… Подите взгляните на него теперь, это ваше создание… Впрочем, вы видели.
— Во-первых, замечу вам, что сам Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что всё это произошло в одно и то же время, почти верно; ну, и что же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал.
— Вы атеист? Теперь атеист?
— Да.
— А тогда?
— Точно так же, как и тогда.
— Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом вы бы могли понять это, — в негодовании пробормотал Шатов.
— Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смирно отвечаю на ваши вопросы и… крики, стало быть, не нарушил еще к вам уважения.
Шатов прервал, махнув рукой:
— Вы помните выражение ваше: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским», помните это?
— Да? — как бы переспросил Николай Всеволодович.
— Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, — вы сказали тогда же: «Не православный не может быть русским».
— Я полагаю, что это славянофильская мысль.
— Нет; нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню наши разговоры.
— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, — очень серьезно произнес Николай Всеволодович. — Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?
— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?
— Но позвольте же и мне наконец спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и… злобный экзамен?
— Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам.
— Вы всё настаиваете, что мы вне пространства и времени…
— Молчите! — вдруг крикнул Шатов. — Я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль… О, только десять строк, одно заключение.
— Повторите, если только одно заключение…
Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.
Шатов принагнулся опять на стуле и на мгновение даже опять было поднял палец.
— Ни один народ, — начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, — ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» — как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова.
— Не думаю, чтобы не изменили, — осторожно заметил Ставрогин, — вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы бога низводите до простого атрибута народности…
Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.
— Низвожу бога до атрибута народности? — вскричал Шатов. — Напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться бога истинного, и оставили миру бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» — это русский народ, и… и… и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, — неистово возопил он вдруг, — который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и… и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!… О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!
Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.
— Напротив, Шатов, напротив, — необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, — напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить всё, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но…
— Но вам надо зайца?
— Что-о?
— Ваше же подлое выражение, — злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять, — «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в бога, надо бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев; который хотел поймать зайца за задние ноги.
— Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль еще бегает?
— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.
— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?
— Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… — залепетал в исступлении Шатов.
— А в бога? В бога?
— Я… я буду веровать в бога.
Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом.
— Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе! — вскричал он наконец, — я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест… Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне… Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал… Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!…
Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову.
— Я вам только кстати замечу, как странность, — перебил вдруг Ставрогин, — почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», — тоже его слова.
— Как? — спросил Шатов, — «по необыкновенной способности к преступлению»?
— Именно.
— Гм. А правда ли, что вы, — злобно ухмыльнулся он, — правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, — вскричал он, совсем выходя из себя, — Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу! Говорите всё, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!
— Я эти слова говорил, но детей не я обижал, — произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули.
— Но вы говорили! — властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз. — Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?
— Так отвечать невозможно… я не хочу отвечать, — пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.
— Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины, — не отставал весь дрожавший Шатов, — знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв… Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?
— Вы психолог, — бледнел всё больше и больше Ставрогин, — хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись… Кто бы, впрочем, мог вам доставить все эти сведения, — усмехнулся он через силу, — неужто Кириллов? Но он не участвовал…
— Вы бледнеете?
— Чего, однако же, вы хотите? — возвысил наконец голос Николай Всеволодович. — Я полчаса просидел под вашим кнутом, и по крайней мере вы бы могли отпустить меня вежливо… если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.
— Разумной цели?
— Без сомнения. В вашей обязанности по крайней мере было объявить мне наконец вашу цель. Я всё ждал, что вы это сделаете, но нашел одну только исступленную злость. Прошу вас, отворите мне ворота.
Он встал со стула. Шатов неистово бросился вслед за ним.
— Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! — вскричал он, схватывая его за плечо.
— Я, однако, вас не убил… в то утро… а взял обе руки назад… — почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза.
— Договаривайте, договаривайте! вы пришли предупредить меня об опасности, вы допустили меня говорить, вы завтра хотите объявить о вашем браке публично!… Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль… Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня… Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!
— Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, — холодно проговорил Николай Всеволодович.
— Знаю, что не можете, и знаю, что не лжете. Слушайте, я всё поправить могу: я достану вам зайца!
Ставрогин молчал.
— Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки… Слушайте, добудьте бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте.
— Бога трудом? Каким трудом?
— Мужицким. Идите, бросьте ваши богатства… А! вы смеетесь, вы боитесь, что выйдет кунштик?
Но Ставрогин не смеялся.
— Вы полагаете, что бога можно добыть трудом, и именно мужицким? — переговорил он, подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьезное, что стоило обдумать. — Кстати, — перешел он вдруг к новой мысли, — вы мне сейчас напомнили: знаете ли, что я вовсе не богат, так что нечего и бросать? Я почти не в состоянии обеспечить даже будущность Марьи Тимофеевны… Вот что еще: я пришел было вас просить, если можно вам, не оставить и впредь Марью Тимофеевну, так как вы одни могли бы иметь некоторое влияние на ее бедный ум… Я на всякий случай говорю.
— Хорошо, хорошо, вы про Марью Тимофеевну, — замахал рукой Шатов, держа в другой свечу, — хорошо, потом само собой… Слушайте, сходите к Тихону.
— К кому?
— К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.
— Это что же такое?
— Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?
— В первый раз слышу и… никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу.
— Сюда, — светил Шатов по лестнице, — ступайте, — распахнул он калитку на улицу.
— Я к вам больше не приду, Шатов, — тихо проговорил Ставрогин, шагая чрез калитку.
Темень и дождь продолжались по-прежнему.