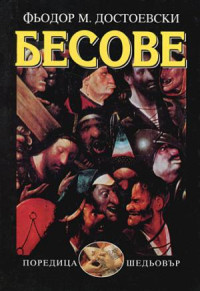Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)
- Превод от руски
- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,8 (× 47 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- automation (2011 г.)
- Допълнителна корекция
- NomaD (2011 г.)
Издание:
Фьодор Достоевски. Бесове
Превод от руски: Венцел Райчев
Редактор: Иван Гранитски
Художник: Петър Добрев
Коректор: Валерия Симеонова
На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош
Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5
Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.
Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“
„Абагар“ АД — Велико Търново
ISBN: 954-9559-04-1
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Година
- 1870–1871 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 6 (× 1 глас)
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990
История
- — Добавяне
Глава пета
Премъдрият змей
I
Варвара Петровна разклати звънчето и се тръшна в креслото до прозореца.
— Седнете тук, мила моя — посочи тя на Маря Тимофеевна място в средата на стаята, до голямата кръгла маса. — Степан Трофимович, какво е това? Тука, тука, погледнете тази жена, какво е това?
— Аз… аз… — взе да мънка Степан Трофимович.
Но влезе лакеят.
— Веднага едно кафе и най-вече колкото може по-скоро! Каретата да не се разпряга.
— Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude…[1] — със замиращ глас възкликна Степан Трофимович.
— Ах! По френски, по френски! Веднага се види, че е висше общество! — плесна с ръце Маря Тимофеевна, приготвяйки се с наслада да слуша френския разговор. Варвара Петровна я погледна почти уплашено.
Всички мълчахме и чакахме някаква развръзка. Шатов не вдигаше глава, а Степан Трофимович беше в паника, сякаш той бе виновен за всичко; по слепоочията му изби пот. Погледнах Лиза (тя седеше в ъгъла, почти до Шатов). Очите й зорко следяха ту Варвара Петровна, ту куцата жена и обратно; усмивка изкривяваше устните й, но лоша. Варвара Петровна виждаше тази усмивка. А в това време Маря Тимофеевна съвсем се беше забравила; с наслаждение и без ни най-малко да се сконфузи, разглеждаше прекрасната гостна на Варвара Петровна — мебелировката, килимите, картините по стените, старинния изписан таван, голямото бронзово разпятие в ъгъла, порцелановата лампа, албумите, разните дреболийки на масата.
— Ама и ти си бил тука, Шатушка! — възкликна тя внезапно. — Откога те гледам, представи си, ама си викам: не е той! Кой ще го пусне него тука! — И весело се разсмя.
— Познавате ли тази жена? — тутакси се обърна към него Варвара Петровна.
— Знам я — измърмори Шатов, понадигна се уж от стола, но остана седнал.
— Какво знаете за нея? По-бързо, моля ви!
— Ами какво… — поусмихна се той с една съвсем излишна усмивка и се запъна… — нали виждате.
— Какво да виждам? Че кажете нещо де!
— Живее в къщата, дето и аз… с брат си… един офицер.
— Е?
Шатов пак се запъна.
— Няма смисъл да приказваме… — смотолеви той и решително млъкна. Дори се изчерви от решителността си.
— Разбира се, от вас не може и да се очаква друго! — с негодувание отсече Варвара Петровна. Беше й вече ясно, че всички знаят нещо и в същото време всички нещо ги е страх и отбягват въпросите й, искат да скрият нещо от нея.
Влезе лакеят и на малка сребърна табличка й поднесе специално поръчаната чашка кафе, но тя с едно движение го отпрати към Маря Тимофеевна.
— Вие, мила моя, бяхте доста измръзнала одеве, изпийте по-бързо това кафе да се стоплите.
— Merci — взе чашката Маря Тимофеевна и внезапно прихна да се смее, дето беше казала merci на лакея. Но срещайки страшния поглед на Варвара Петровна, се смути и постави чашката на масата.
— Лельо, ама да не би пък да ми се сърдите? — избърбори тя с някаква лекомислена игривост.
— Какво-о-о? — стреснато се изправи в креслото Варвара Петровна. — Каква леля съм ви аз? Какво имахте предвид?
— Аз… аз мислех, че тъй трябва — смотолеви тя, гледайки опулено Варвара Петровна, — Лиза ви викаше тъй.
— Коя е пък тази Лиза?
— Ами ей тая госпожица — посочи с пръстче Маря Тимофеевна.
— Тя вече Лиза ли ви стана?
— Вие така й казахте одеве — посъвзе се Маря Тимофеевна. — Пък аз досущ такваз хубавица сънувах — сякаш неволно се усмихна тя.
Варвара Петровна взе да разбира и се успокои донейде; дори се поусмихна на последните думи на Маря Тимофеевна, която пък, доловила усмивката й, стана от креслото и куцукайки плахо, се приближи до нея.
— Вземете, забравих да ви го върна, не ми се сърдете за неучтивостта — свали тя внезапно от плещите си черния шал, с който я бе наметнала Варвара Петровна.
— Веднага се наметнете и повече нито дума, той е ваш. Седнете, пийте си кафето и много ви моля, не се бойте от мен, мила моя, успокойте се. Вече започвам да ви разбирам.
— Chère amie… — позволи си отново Степан Трофимович.
— Ах, Степан Трофимович, тук и без вас свят да му се завие на човек, поне вие ме пощадете… позвънете, моля ви, с тоя звънец там до вас за слугинската.
Настъпи мълчание. Погледът й подозрително и раздразнено се плъзгаше по лицата на всички ни. Появи се Агаша, любимата й слугиня.
— Карирания ми шал, дето го купих в Женева. Какво прави Даря Павловна?
— Ами неразположена е.
— Иди я помоли да дойде. Кажи, че много я моля, въпреки неразположението й.
В тоя момент откъм съседните стаи отново се чу същият необичаен като одеве шум от стъпки и гласове и на вратата изведнъж се появи запъхтяната и разстроена Прасковя Ивановна. Маврикий Николаевич я водеше под ръка.
— Ох, божичко, едва се дотътрих; Лиза, ти полудяла ли си, какво правиш с майка си! — изпищя тя, влагайки в този писък, както си им е обичаят на всички слаби, но нервни особи, всичкия си натрупан яд.
— Варвара Петровна, аз, сестро, за дъщеря си съм дошла!
Варвара Петровна й хвърли поглед изпод вежди, понадигна се насреща й и с една скрита досада издума:
— Здравей, Прасковя Ивановна, заповядай, седни. Знаех си аз, че ще дойдеш.
II
За Прасковя Ивановна в такова едно посрещане не можеше да има нищо неочаквано. Варвара Петровна открай време, от детинство, се беше отнасяла към някогашната си приятелка от пансиона деспотично и, под формата на дружба, едва ли не с презрение. Но в дадения случай нещата стояха по-особено. През последните дни между двете семейства вървеше към пълно скъсване, за което вече бегло споменах. За Варвара Петровна причините за това скъсване бяха засега все още тайнствени, сиреч още по-обидни; но главното беше, че Прасковя Ивановна бе започнала да се държи по един крайно високомерен начин. Варвара Петровна, естествено, бе уязвена, а междувременно вече и до нея бяха взели да стигат някои странни слухове, които също извънредно много я нервираха, и то именно със своята неопределеност. Характерът на Варвара Петровна бе прям и гордо открит, кавалерийски, ако ни е позволено да се изразим така. Най-много от всичко не можеше да понася тайните, прикрити обвинения и винаги предпочиташе откритата война. Както и да било, но вече цели пет дни двете дами не се бяха виждали. Последната визита беше от страна на Варвара Петровна, която си бе отишла „от Дроздовицата“ обидена и смутена. Няма да сгреша, ако кажа, че Прасковя Ивановна беше влязла с наивното убеждение, че сега Варвара Петровна, кой знае защо, трябва да се уплаши от нея; личеше й още по израза на лицето. Но, изглежда, бесът на най-безцеремонната гордост обземаше Варвара Петровна тъкмо тогава, когато дори малко от малко заподозреше, че поради някаква си причина я смятат за унизена. Прасковя Ивановна пък, както и повечето слаби особи, позволяващи дълго да ги обиждат безропотно, се отличаваше с необикновено дръзка нападателност при първия обрат на нещата в нейна полза. Вярно, че сега не беше добре, а като боледуваше, винаги ставаше по-нервна. Ще прибавя накрая, че всички ние, дето бяхме в гостната, нямаше да притесним кой знае колко с присъствието си двете приятелки от детинство, ако помежду им избухнеше кавга; минавахме за свои хора, едва ли не за подчинени. Аз не без уплаха си го помислих още тогава. Степан Трофимович, който не беше сядал още от самото влизане на Варвара Петровна, като чу крясъка на Прасковя Ивановна, в изнемога се тръшна на стола и взе отчаяно да дири погледа ми. Шатов рязко се извърна на стола си и дори изсумтя нещо. Струва ми се, искаше да стане и да си отиде. Лиза уж понечи да стане, но тутакси отново седна на мястото си, дори не обръщайки необходимото внимание на майчиния си крясък, но не поради „опърничавия си характер“, а защото очевидно цялата беше в плен на някакво друго могъщо впечатление. Сега почти разсеяно се бе загледала някъде във въздуха и не обръщаше внимание дори на Маря Тимофеевна.
III
— Ох, тука! — посочи Прасковя Ивановна креслото край масата и се отпусна в него с помощта на Маврикий Николаевич. — Хич нямаше да ви седна у вас, сестро, да не бяха тия крака! — прибави тя с истеричен глас.
Варвара Петровна понадигна малко глава, притискайки с болезнена гримаса пръстите на дясната си ръка към дясното слепоочие и явно изпитвайки там болка (tic doulourex[2]).
— Че защо тъй, Прасковя Ивановна, защо пък чак да не седнеш в дома ми? От мъжа ти, покойника, цял живот само най-искрено благоразположение съм виждала, а ние с тебе от момиченца сме си играли на кукли в пансиона.
Прасковя Ивановна замаха с ръце.
— Тъй си знаех! Вечно с тоя пансион ще почнете, щом речете да ме упреквате в нещо — туй ви е ходът. Пък мен ако питате, чисто красноречие. Не мога да го търпя тоя ваш пансион.
— Ти, изглежда, си дошла в твърде лошо настроение; как са ти краката? Ето, кафе ти носят, заповядай, пий и не се сърди.
— Варвара Петровна, сестро, вие с мен като с малко момиченце. Не ща кафе, на, да видите!
И тя свадливо махна с ръка към слугата, който й поднасяше кафето. (От кафе впрочем и другите се отказаха освен мен и Маврикий Николаевич, Степан Трофимович уж взе, но остави чашата на масата. Маря Тимофеевна, макар и много да й се щеше да вземе втора чаша, че дори посегна, но размисли и чинно се отказа, явно доволна от постъпката си.)
Варвара Петровна се усмихна криво.
— Знаеш ли какво, Прасковя Ивановна, ти, драга моя, сигурно пак си си наумила някоя измишльотина на идване. Ти цял живот не можеш да се отървеш от тия си измишльотини. Сърдиш ми се за пансиона; ами помниш ли, когато дойде и каза пред целия клас, че хусарят Шабликин те бил поискал, и когато madame Lefebure намясто те изобличи в лъжа. А пък ти не лъжеше, ами просто си го беше измислила за утеха. Хайде, казвай: какво има сега? Какви си ги измислила, от какво си недоволна?
— А пък вие се бяхте влюбили в попа, дето предаваше закон божи в пансиона — на, да видите, щом и досега сте толкова злопаметна — ха-ха-ха!
Тя жлъчно се разсмя и се закашля.
— А-а, не си забравила, значи, за попа… — с омраза я погледна Варвара Петровна.
Лицето й позеленя. Прасковя Ивановна внезапно се изпъчи.
— На мен, сестро, сега не ми е до смях; защо пред целия град замесвате дъщеря ми във вашите скандали, ей за това съм дошла!
— В моите скандали ли? — заплашително се надигна Варвара Петровна.
— Маман, аз също много ви моля, бъдете по-умерена — обади се Лизавета Николаевна.
— Какво каза? — като че се приготви пак да кресне майката, но изведнъж се сви пред святкащия поглед на дъщеря си.
— Как можахте да го кажете това за скандала, маман — пламна Лиза. — Аз тръгнах сама с разрешение на Юлия Михайловна, защото исках да науча историята на тази клетница, та да й бъда полезна.
— „Историята на тази клетница!“ — със злобен смях проточи Прасковя Ивановна. — Че прилича ли ти на тебе да се забъркваш в такива „истории“? Ох, сестро! Наситихте му се на вашия деспотизъм! — бясно се извърна тя към Варвара Петровна. — Лъжа ли е, не е ли, но го казват хората — целия град сте изплашили, ама, види се, и на вас ви е дошло времето!
Варвара Петровна седеше изопната като стрела, готова да изхвърчи от лъка. Десетина секунди строго и неподвижно гледа Прасковя Ивановна.
— Благодари се на бога, Прасковя, че тук са все свои — отрони тя най-сетне със зловещо спокойствие, — излишни приказки ми наговори.
— Мен, сестро, не ме е страх от хорското мнение като някои, вие сте, дето уж от гордост треперите пред хорското мнение. А че били свои хора — за вас е по-добре, отколкото чужди да чуеха.
— Ти да не си поумняла нещо за тая седмица?
— Не съм аз поумняла за тая седмица, ами, види се, истината излезе на бял свят през тая седмица.
— Каква истина е излязла на бял свят през тая седмица? Слушай, Праскова Ивановна, я не ме ядосвай, ами на минутата ми обясни, в името на честта те моля: каква истина е излязла на бял свят и какво имаш предвид?
— Ами ей ти я цялата истина, седнала тук! — Прасковя Ивановна внезапно посочи с пръст Маря Тимофеевна с оная отчаяна решителност, която вече не мисли за последствията, само и само да нанесе удара. Маря Тимофеевна, която през всичкото време я гледаше с весело любопитство, радостно се засмя, виждайки насочения към нея пръст на разгневената гостенка, и весело се размърда в креслото.
— Господи Исусе Христе, полудели ли са тия хора! — възкликна Варвара Петровна и побледнявайки, се отметна назад в креслото.
Тъй беше побеляла, че настъпи дори суматоха. Степан Трофимович пръв се хвърли към нея; аз също се приближих; дори Лиза се изправи, макар да остана до креслото си, но най-много от всички се изплаши Прасковя Ивановна; изписка, изправи се, както можа, и почти закрещя с плачлив глас:
— Сестро, Варвара Петровна, сестро, простете ми злобните глупости! Че вода поне й дайте де, я по-бързо!
— Не хленчи, Прасковя Ивановна, моля те, и вие, господа, се дръпнете, бъдете добри, не ми трябва вода! — твърдо, макар и тихо изговори с побелели устни Варвара Петровна.
— Сестро! — продължаваше поуспокоилата се малко Прасковя Ивановна. — Драга ми Варвара Петровна, аз, макар и да съм виновна за непредпазливите думи, ама пък ме ядосаха най-много от всичко тия безименни писма, с които някакви мизерници ме бомбардират, тъй де, на вас да пишат, щом за вас пише, а аз, сестро, имам дъщеря.
Варвара Петровна безмълвно я гледаше с широко отворени учи и с учудване слушаше. В този миг в ъгъла тихо се отвори страничната врата и се появи Даря Павловна. Тя спря и се огледа наоколо; смущението ни я беше поразило. Трябва да не беше познала веднага и Маря Тимофеевна, за която никой не я беше предизвестил. Степан Трофимович пръв я забеляза, направи бързо движение, изчерви се и кой знае защо, гръмогласно провъзгласи: „Даря Павловна!“, тъй че всички очи едновременно се обърнаха към новодошлата.
— Как, та това ли била вашата Даря Павловна! — възкликна Маря Тимофеевна. — Е, Шатушка, не мяза на теб сестра ти! И моичкият седнал да вика на тая прелест „крепостното момиче Дашка“!
В това време Даря Павловна вече беше отишла при Варвара Петровна; но поразена от възклицанието на Маря Тимофеевна, бързо се обърна и тъй си остана пред стола, загледана в лудата, която приковаваше погледа й.
— Седни, Даша — с ужасяващо спокойствие каза Варвара Петровна, — по-близо, така; и седнала можеш да гледаш тази жена. Познаваш ли я?
— Никога не съм я виждала — тихо отвърна Даша, помълча и тутакси прибави: — Това трябва да е болната сестра на някой си господин Лебядкин.
— И аз, душичке, за пръв път сега ви виждам, макар отдавна вече да съм любопитна и да искам да се запознаем, защото във всеки ваш жест виждам възпитание — въодушевено извика Маря Тимофеевна. — А тия, дето моят лакей ги плещи — че мигар е възможно да сте му взели парите, такава възпитана и мила? Защото сте мила, мила, мила, от мен да го знаете! — възторжено завърши тя, махайки отпреде си с ръчичка.
— Разбираш ли нещо? — с гордо достойнство запита Варвара Петровна.
— Всичко разбирам…
— За парите чу ли?
— Това ще е за ония пари, които по молба на Николай Всеволодович още в Швейцария се наех да предам на този господин Лебядкин, брат й.
Последва мълчание.
— Самият Николай Всеволодович ли те помоли да ги предадеш?
— Много искаше да прати тези пари, всичко триста рубли, на господин Лебядкин. А тъй като не му знаеше адреса, а знаеше само, че ще идва в града, ми поръча да ги предам, в случай че господин Лебядкин пристигне.
— Какви пари са… изчезнали? За какво говореше тази жена сега?
— Това вече не знам; до мен също стигна, че господин Лебядкин разправял по мой адрес, че не съм му била предала всичко; но аз тия му думи не ги разбирам. Триста рубли бяха и аз триста рубли му пратих.
Даря Павловна се беше успокоила почти напълно. И изобщо ще отбележа, че беше трудно задълго да смутиш това момиче и да го объркаш, та каквото и ще да му беше отвътре. И сега даде всичките си отговори, без да бърза, но отговаряше на всеки въпрос незабавно, точно, спокойно, гладко, без каквато и да било следа от първоначалното си внезапно вълнение и без ни най-малко смущение, което да свидетелства за каквато и да било вина. През всичкото време, докато говореше, Варвара Петровна не откъсваше поглед от нея. Варвара Петровна помисли около минута.
— Щом Николай Всеволодович — изрече тя най-сетне твърдо и явно за зрителите, макар да гледаше единствено Даша, — щом не се е обърнал с поръчката си към мен, а е помолил тебе, той, естествено, е имал причини да постъпи така. Не смятам, че имам правото да любопитствам за тях, щом ги крият от мен. Но дори едничкото твое участие ми стига, за да съм напълно спокойна относно тях, знай го това, Даря, преди всичко друго. Но видиш ли, мила, ти и с чиста съвест, само от непознаване на хората, би могла да допуснеш някаква непредпазливост и си я допуснала, нагърбвайки се да влезеш в досег с един мерзавец. Слуховете, разпространени от този негодник, потвърждават грешката ти. Но аз ще разузная за него и тъй като аз съм ти защитницата, ще съумея да се застъпя за теб. А сега трябва да свършим с всичко това.
— Най-хубаво, щом дойде при вас, да го пратите при слугите — обади се внезапно Маря Тимофеевна, навеждайки се напред от креслото. — Да седи там на пейката и да шиба с тях своите козове, а ние ще си седим тук и ще пием кафе. Колкото за едно кафенце, и на него може да му пратим, но аз дълбоко го презирам.
И тя изразително завъртя глава.
— Трябва да свършим с това — повтори Варвара Петровна, изслушвайки внимателно Маря Тимофеевна. — Степан Трофимович, позвънете, моля ви.
Степан Трофимович позвъни и внезапно излезе напред, силно развълнуван.
— Ако… ако аз… — засрича той пламнал, зачервен, запъвайки се и заеквайки — ако аз също чух най-отвратителната повест или, по-добре да се каже, клевета, то… с пълно негодувание… enfin, c’est un homme perdu et quelque chose comme un forçat evede…[3]
Той прекъсна и не довърши; Варвара Петровна го изгледа от горе до долу с присвити очи. Влезе чинният Алексей Егорович.
— Каретата — нареди Варвара Петровна, — а ти, Алексей Егорич, се приготви да отведеш госпожа Лебядкина у дома й, дето тя самата ще ти посочи.
— Господин Лебядкин от някое време я очакват долу и много молят, значи, да ви се доложи за тяхна милост.
— Това е невъзможно, Варвара Петровна — обезпокоено излезе напред Маврикий Николаевич, който невъзмутимо беше мълчал през всичкото време, — с ваше позволение, това не е човек, който може да влезе в едно общество, това е, това е… това е невъзможен човек, Варвара Петровна.
— Да изчака — обърна се Варвара Петровна към Алексей Егорович и той излезе.
— C’est un homme malhonnête et je même que c’est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre[4] — пак измърмори Степан Трофимович, пак се изчерви и пак спря.
— Лиза, време е да вървим — с погнуса провъзгласи Прасковя Ивановна и се надигна от мястото си. Изглежда, вече съжаляваше, че одеве в уплахата си сама се беше нарекла глупачка. И като говореше Даря Павловна, тя я слушаше вече с високомерно свити устни. Но най-много от всичко ме порази изразът на Лизавета Николаевна от момента, когато беше излязла Даря Павловна; в очите й заблестяха омраза и презрение, твърде неприкрити при това.
— Само за минутка, Прасковя Ивановна, моля те — спря я Варвара Петровна с все същото преувеличено спокойствие, — бъди така добра да седнеш, защото възнамерявам докрай да се изкажа, а тебе те болят краката. Тъй, благодаря ти. Одеве се бях нервирала и ти казах някои припрени думи. Бъди така добра да ми го простиш; глупост направих и първа аз се кая, защото обичам справедливостта. Ти, разбира се, също в яда си спомена за някакви си анонимни писма. Всяко анонимно набеждаване е достойно за презрение, дори затуй само че не е подписано. Ако го разбираш инак — не ти завиждам. Във всеки случай на твое място нямаше да тръгна да вадя на бял свят тая мръсотия, не бих си папала ръцете. А ти ги оцапа. Но тъй като ти вече почна, ще ти кажа, че преди шест дни и аз получих анонимно, палячовско писмо. В него някакъв негодник ме уверява, че Николай Всеволодович е полудял и че трябвало да се страхувам от някаква куца жена, която „ще играе изключителна роля в живота ми“, запомнила съм израза. Размислих и като видях, че Николай Всеволодович има извънредно много врагове, тутакси пратих да повикат един човек, най-отмъстителния и презрян от всичките му тайни врагове, и от разговора с него веднага се убедих в презрения произход на анонима. Ако и теб, бедна ми Прасковя Ивановна, са те безпокоили заради мене със същите презрени писма й, както се изрази, са те „бомбардирали“, аз, разбира се, първа съжалявам, че без вина съм станала причина за това. Туй е то всичко, което исках да ти кажа за обяснение. Със съжаление виждам, че си толкова уморена и сега не си на себе си. При това аз реших непременно да пусна да влезе тоя подозрителен човек, за когото Маврикий Николаевич се изрази малко пресилено: че било невъзможно да бъде приет. Лиза пък особено няма какво да прави тука. Ела, Лиза, дете мое, и дай още веднъж да те целуна.
Лиза прекоси стаята и мълчаливо застана пред Варвара Петровна. Тя я целуна, взе я за ръце, отдалечи я малко от себе си, погледна я с вълнение, после я прекръсти и пак я целуна.
— Е, сбогом, Лиза (в гласа на Варвара Петровна се долавяха почти сълзи), вярвай, че няма да престана да те обичам, каквото и да ти е отредила съдбата занапред… Бог да те пази. Аз всякога съм благославяла святата му десница…
Искаше още нещо да добави, но се овладя и млъкна. Лиза тръгна за мястото си, все тъй мълчалива и някак унесена, но изведнъж спря пред майка си.
— Аз, маман, няма да си ида още, ще остана още малко у леля — каза тя с тих глас, но в тия тихи думи прозвуча желязна решителност.
— Господи боже мой, какво е това! — изви глас Прасковя Ивановна, безсилно пляскайки с ръце. Но Лиза не отговори и сякаш дори не бе чула; седна си на мястото в ъгъла и пак взе да гледа някъде във въздуха.
Нещо победоносно и гордо грейна на лицето на Варвара Петровна.
— Маврикий Николаевич, имам една голяма молба към вас, бъдете така добър, идете да видите онзи човек долу и ако има що-годе възможност да бъде пуснат, доведете го тук.
Маврикий Николаевич се поклони и излезе. След минута той доведе господин Лебядкин.
IV
Аз май разказвах вече за външността на този господин: висок, къдрокос, набит мъж, около четирийсетте, мораво, малко подпухнало и отпуснато лице, бузи, които се тресяха при всяко движение на главата, малки, кървясали, понякога доста хитри очички, мустаци, бакенбарди и започнала вече да изскача месеста адамова ябълка, твърде неприятен на вид. Но най-поразителното у него беше, че сега се яви с фрак и чиста риза. „Има хора, на които чистата риза им стои дори неприлично“, беше възразил веднъж Липутин на шеговития упрек на Степан Трофимович, че е немарлив. Капитанът беше и с черни ръкавици, дясната от които, още ненадявана, държеше в ръка, а лявата, силно изопната и незакопчана, скриваше до половина месестата му лява лапа, в която държеше съвсем ново, лъскаво и навярно неупотребявано още бомбе. Излизаше, значи, че вчерашният „фрак на любовта“, за който разправяше на Шатов, действително е съществувал. Всичко това, тоест и фракът, и ризата бяха приготвени (както научих впоследствие) по съвета на Липутин за някакви тайнствени цели. Нямаше съмнение, че и сега беше пристигнал (с нает файтон) непременно по чуждо внушение и с нечия помощ; самичък не би могъл нито да се сети, нито пък да се облече, да се приготви и реши за някакъв си три четвърти час, дори ако предположим, че тутакси е научил за сцената пред вратата на храма. Не беше пиян, но беше в онова тежко, отпуснато и замаяно състояние на човек, току-що събуден след многодневно пиянство. Изглеждаше тъй, че стига човек да го поразклати два-три пъти с ръка за рамото, и той тутакси отново ще изпадне в пияно състояние.
Влизането му в гостната беше стремително, но на вратата внезапно се препъна в килима. Маря Тимофеевна просто примря от смях. Той зверски я изгледа и внезапно направи няколко крачки към Варвара Петровна.
— Дошъл съм, госпожо… — гръмна гласът му като бурия.
— Милостиви господине, бъдете така любезен да се настаните ей там, на онзи стол. Аз ще ви чувам и оттам, а оттук ще ми е по-удобно да ви гледам.
Капитанът се спря, тъпо загледан пред себе си, но се върна обаче и седна на посоченото място, до вратата. На физиономията му бе изписана една силна вътрешна неувереност, а наред с това наглост и някаква постоянна раздразнителност. Ужасно го беше страх, това си личеше, но страдаше и самолюбието му и можеше да се предвиди, че в даден случай засегнатото самолюбие може въпреки страха да го тласне към всякаква наглост. Той сякаш се страхуваше от всяко движение на тромавото си тяло. Знае се, че всички подобни господа, попаднали по някакво чудо в добро общество, се измъчват най-вече от собствените си ръце и ежеминутно съзнават, че е невъзможно да направят нещо прилично с тях. Капитанът замря на стола с шапката и ръкавиците в ръце, като не сваляше безсмисления си поглед от строгото лице на Варвара Петровна. Искаше му се може би да се огледа наоколо, но все още не се решаваше. Маря Тимофеевна, която навярно отново бе намерила във фигурата му нещо невероятно смешно, пак се изкикоти, но той не помръдна. Варвара Петровна безжалостно дълго, цяла минута, го държа в това положение, разглеждайки го безпощадно.
— Отначало позволете да научим името ви от самия вас? — отмерено и изразително каза тя.
— Капитан Лебядкин — избоботи капитанът, — аз дойдох, госпожо… — отново се разшава той.
— Моля! — пак го спря Варвара Петровна. — Наистина ли тази клетница, която толкова ме заинтригува, е ваша сестра?
— Сестра, госпожо, изплъзнала се от надзора, защото тя е в положение…
Той изведнъж се запъна и почервеня.
— Не го вземайте превратно, госпожо — ужасно се обърка той, — родният брат няма да седне да петни… в положение не означава такова положение… в онзи смисъл, опетняващ репутацията… напоследък…
Той изведнъж млъкна.
— Милостиви господине! — вдигна глава Варвара Петровна.
— Ей в такова на положение! — внезапно заключи той, мушейки с пръст в средата на челото си. Последва известно мълчание.
— И отдавна ли го има това страдание? — проточи глас Варвара Петровна.
— Госпожо, аз дойдох да ви благодаря за проявеното от вас пред храма великодушие по руски, по братски…
— По братски?
— Тоест не по братски, а единствено в смисъл че съм брат на сестра си, госпожо, и повярвайте ми, госпожо — разбърза се той и пак почервеня, — че не съм тъй необразован, както може да ви се стори от пръв поглед във вашата гостна. Ние със сестра ми, госпожо, сме нищо в сравнение с разкоша, който забелязвам тук. Имайки при това своите клеветници. Но Лебядкин е горд относно репутацията си, госпожо, и… и… аз дойдох да се отблагодаря… На, ето парите, госпожо!
Той извади портфейла от джоба си, трескаво измъкна от него снопче пари и взе да ги рови с разтреперани пръсти в неудържим припадък на нетърпение. Явно бе, че му се щеше по-скоро да обясни нещо, пък и крайно необходимо беше; но усещайки вероятно, че това негово мотаене с парите го прави да изглежда още по-глупав, загуби и последната капка самообладание; не можеше и не можеше да отброи тия пари, пръстите му се заплитаха и за капак на всичко една зелена банкнота[5] се изхлузи от портфейла и зигзагообразно отлетя на килима.
— Двайсет рубли, госпожо — скочи той внезапно с парите в ръка и с плувнало в пот от страданията лице; забеляза отлитналата на пода банкнота, понечи да се наведе да я вдигне, но нещо се засрами и махна с ръка.
— За вашите хора, госпожо, за лакея, дето ще чисти; да запомни Лебядкин!
— Аз това не мога да го позволя в никакъв случай — бързо и с известна уплаха каза Варвара Петровна.
— В такъв случай…
Наведе се, вдигна банкнотата, почервеня и изведнъж се приближи до Варвара Петровна и подаде отброените пари.
— Какво е това? — вече съвсем се уплаши тя накрая и дори се дръпна назад в креслото. Маврикий Николаевич, аз и Степан Трофимович пристъпихме напред.
— Успокойте се, успокойте се, не съм луд, ей богу, не съм луд! — развълнувано уверяваше капитанът на всички страни.
— Не, милостиви господине, вие сте полудели.
— Госпожо, това съвсем не е онова, което си мислите. Аз, разбира се, съм една нищожна брънка… О, госпожо, богати са вашите чертози, но са бедни те у Маря Неизвестната, моята сестра, по баща Лебядкина, която засега обаче ще назовем Маря Неизвестната, засега, госпожо, само засега, защото за навеки не ще допусне бог! Госпожо, вие сте й дали десет рубли и тя ги е приела, но за това, че са от вас, госпожо! Чувате ли, госпожо! От никого на тоя свят не ще приеме Неизвестната Маря, защото инак ще се обърне в гроба си щабсофицерът, дядо й, убит в Кавказ пред очите на самия Ермолов[6], но от вас, госпожо, от вас ще вземе всичко. Но вземайки с едната ръка, с другата ще ви подаде вече двайсет рубли, като пожертвование за един от столичните благотворителни комитети, на които вие, госпожо, сте членка… и тъй като самата вие, госпожо, обявихте в „Московские ведомости“, че у вас се намира тукашната, за нашия град, значи, книга на благотворителното дружество, в която всеки може да впише…
Капитанът внезапно спря; дишаше тежко, като след някакъв труден подвиг. Всичко това относно благотворителния комитет бе навярно отнапред подготвено, може би също под редакцията на Липутин. Лебядкин още повече се изпоти; по слепоочията му буквално бяха избили капки пот. Варвара Петровна го гледаше с пронизителен поглед.
— Тази книга — строго изрече тя, — винаги се намира долу, при портиера на къщата ми, там може да впишете пожертвованието си, щом желаете. А поради това ви моля сега да си приберете парите и да не ги размахвате във въздуха. Тъй. Моля ви също да заемете предишното си място. Тъй. Много съжалявам, милостиви господине, че съм сгрешила относно сестра ви и съм й дала милостиня, когато тя е толкова богата. Само едно не разбирам, защо единствено от мен можела да вземе, а от други за нищо на света не би приела? Вие толкова наблягахте на това, че аз искам съвсем точно обяснение.
— Госпожо, това е тайна, която може да бъде отнесена само в гроба! — отвърна капитанът.
— Но защо? — вече не тъй уверено попита Варвара Петровна.
— Госпожо, госпожо!…
Той мрачно млъкна, гледайки в земята и поставяйки дясната си ръка на сърцето. Варвара Петровна чакаше, без да сваля очи от него.
— Госпожо — ревна той внезапно, — ще позволите ли да ви направя едно запитване, само едно, но открито, прямо, по руски, от душа?
— Моля, заповядайте.
— Страдали ли сте вие в живота, госпожо?
— Вие просто искате да кажете, че сте пострадали или страдате от някого.
— Госпожо, госпожо! — отново скочи той внезапно, без вероятно да го забелязва, и взе да се удря в гърдите. — Тук, в това сърце, толкова е накипяло, толкова, че самият господ ще се зачуди, откривайки го в деня на Страшния съд!
— Хм, силно казано.
— Госпожо, аз може би говоря с езика на раздразнението.
— Не се безпокойте, аз знам кога трябва да ви спра.
— Мога ли да ви предложа още един въпрос, госпожо?
— Предложете още един въпрос.
— Възможно ли е да умреш единствено от благородството на своята душа?
— Не знам, не съм си задавала такъв въпрос.
— Не знаете! Не сте си задавали такъв въпрос! — викна той с патетична ирония. — А щом е тъй, щом е тъй:
Мълчи безнадеждно сърце![7]
И ожесточено се удари в гърдите.
Той пак тръгна да ходи по стаята. Характерно за тия хора е пълното им неумение да сдържат желанията си; наопаки, обладани са от един неудържим стремеж тутакси да ги разкрият, та дори с всичката им непристойност. Попадайки в чужд кръг, такъв един господин обикновено започва плахо, но отстъпете му само на косъм, и той тутакси става дързък. Капитанът вече се горещеше, разхождаше се, размахваше ръце, не слушаше въпросите, с голяма бързина говореше за себе си, ама с такава бързина, че понякога езикът му се заплиташе и недоизговорил едната, прескачаше на друга фраза. Вярно, че едва ли бе напълно трезвен; тук седеше и Лизавета Николаевна, която той не погледна нито веднъж, но чието присъствие, изглежда, страшно го опияняваше. Впрочем това е само предположение. Ще рече, съществувала е, значи, причина, поради която Варвара Петровна, преодолявайки отвращението си, се бе решила да изслуша подобен човек. Прасковя Ивановна просто се тресеше от страх, наистина, без, изглежда, да разбира напълно какво става. Степан Трофимович също трепереше, но от обратното, защото винаги беше склонен да възприема преувеличено. Маврикий Николаевич стоеше в позата на всеобщ закрилник. Лиза беше бледничка и не откъсваше широко отворените си очи от дивия капитан. Шатов седеше в предишната поза; но което е най-странното, Маря Тимофеевна не само престана да се смее, но стана ужасно тъжна. Беше се облакътила с дясната ръка на масата и с дълъг тъжен поглед следеше декламациите на братлето си. Единствено Даря Павловна ми изглеждаше спокойна.
— Всичко това са глупави алегории — разсърди се най-сетне Варвара Петровна, — вие не отговорихте на въпроса ми: „Защо?“ Аз настойчиво чакам отговор.
— Не съм ви отговорил „защо“? Чакате отговора на вашето „защо“? — каза капитанът, смигайки. — Тази малка думица „защо“ се носи по цялата вселена от първия ден на сътворението на света, госпожо, и цялата природа ежеминутно пита своя творец: „Защо?“ — и ето че цели седем хиляди години не получава отговор. На капитан Лебядкин ли остана да дава отговора и справедливо ли излиза тъй, госпожо?
— Всичко това са глупости и глупости! — гневеше се и губеше търпение Варвара Петровна. — Говорите ми алегории, а освен това си позволявате да говорите твърде разточително, милостиви господине, което го смятам за дързост.
— Госпожо — не слушаше капитанът, — аз може би желая да се наричам Ернст, а междувременно съм принуден да нося грубото име Игнат — защо, как мислите? Аз може би желая да се казвам княз Дьо Монбар[8], а междувременно съм само капитан Лебядкин, от лебед — защо така? Аз съм поет, госпожо, поет по душа, и бих могъл да получавам хиляда рубли от издателя, а междувременно съм принуден да живея в коптор — защо, защо? Госпожо! Според мен Русия е една игра на природата, не повече!
— Вие решително не можете да кажете нищо по-определено?
— Аз мога да ви кажа стихотворението „Хлебарка“, госпожо!
— Какво-о-о?
— Госпожо, още не съм луд! Ще полудея, сигурно ще полудея, но още не съм луд! Госпожо, един мой приятел — най-благо-род-на личност — написа една басня на Крилов под заглавието „Хлебарка“ — може ли да ви я кажа?
— Искате да ни кажете някоя басня от Крилов?
— Не, не искам да ви кажа басня от Крилов, а моя басня, моя собствена, мое съчинение! Повярвайте, госпожо, без да го вземате навътре, че не съм чак до такава степен необразован и развратен, та да не разбирам, че Русия разполага с великия баснописец Крилов, на когото самият министър на просвещението му издигна паметник за забава на невръстните деца[9] в Лятната градина. Нали ме питате, госпожо: „Защо?“ Отговорът е на дъното на тази басня, със златни литери!
— Кажете баснята си.
— Имало една хлебарка,
тя ударила на бягство.
И се пъхнала във чаша,
пълна с мухоядство…
— Господи, какво е това? — възкликна Варвара Петровна.
— Тоест, когато лете — разбърза се капитанът, размахвайки ужасно ръце с нетърпеливото раздразнение на автора, комуто са попречили да чете, — когато лете в чашата нахлуят мухи, започва мухоядство, всеки глупак ще го разбере, не ме прекъсвайте, не ме прекъсвайте, ще видите, ще видите… (Той все размахваше ръце.)
Колко е една хлебарка?
Но мухите възроптали.
„Няма място в нашта чаша“ —
на Юпитер закрещели.
На протестния им шум
отговорил Никифор,
старец с благороден ум… —
Тук още не ми е завършено, но все едно, ще ви го кажа с думи! — бръмчеше капитанът. — Никифор взема чашата и въпреки протестите изхвърля в помията цялата комедия и мухите, и хлебарката, което отдавна е трябвало да се направи. Но забележете, забележете, госпожо, хлебарката не роптае! Ето го отговора на вашия въпрос „Защо?“ — викна той, тържествувайки. — „Хлебар-ка-та не роптае!“ Що се отнася до Никифор, той изобразява природата — добави той бързешката и самодоволно взе да ходи по стаята.
Варвара Петровна ужасно се разсърди.
— А за какви пари, позволете да ви попитам, получени уж от Николай Всеволодович и уж ви недодадени, сте се осмелили да обвините едно лице от моя дом?
— Клевета! — изрева Лебядкин, вдигайки трагично дясната си ръка.
— Не, не е клевета.
— Госпожо, има обстоятелства, които принуждават да понесеш фамилния позор, нежели гръмко да провъзгласиш истината. Лебядкин няма да се изтърве, госпожо!
Бе сякаш ослепял; изпаднал бе във вдъхновение; чувстваше се значителен; такова нещо трябва да си е представял. Вече му се искаше да обиди, да скрои някоя мръсотийка, да покаже властта си.
— Степан Трофимович, позвънете, моля — помоли Варвара Петровна.
— Лебядкин е хитър, госпожо! — намигна той с лоша усмивка. — Хитър е, но и той си има граница, и той има своето преддверие на страстта! И това преддверие е старата хусарска бутилка, възпята от Денис Давидов[10]. И тъкмо когато е в това преддверие, госпожо, се случва, значи, да изпрати някое писмо в стиховце, най-пре-възход-но-то, но което отподире би желал да върне обратно със сълзите на целия си живот, защото е накърнено чувството за прекрасното. Но птичката е изхвръкнала, върви, че й гони опашката! Ето, тъкмо в това преддверие, госпожо, Лебядкин може да се е изтървал и относно благородната госпожица, във формата на благородно негодувание на възмутената му от обиди душа, от което са се възползвали и клеветниците му. Но Лебядкин е хитър, госпожо! И напразно го дебне зловещият вълк, доливайки ежеминутно чашата и чакайки развръзката: не ще се изтърве Лебядкин, и на дъното на бутилката вместо очакваното всякой път се оказва — хитростта на Лебядкин! Но стига, о, стига! Госпожо, вашите великолепни чертози биха могли да принадлежат на най-благородното от всички лица, но хлебарката не роптае! Забележете го, забележете го най-сетне, че не роптае, и узнайте величието на духа!
В този момент долу, в стаята на портиера, се раздаде звън и почти тутакси се появи малко позабавилият се след позвъняването на Степан Трофимович Алексей Егорич. Старият слуга беше в някакво необикновено възбудено състояние.
— Николай Всеволодович благоволиха току-що да пристигнат и идват насам — произнесе той в отговор на въпросителния поглед на Варвара Петровна.
Особено добре я помня в този миг: първо побледня, но внезапно очите й засвяткаха. Тя се изправи в креслото с един необикновено решителен вид. Пък и всички бяхме поразени. Съвсем неочакваното пристигане на Николай Всеволодович, когото чакаха най-малкото след месец, бе странно не само със своята неочакваност, а именно със съдбоносното съвпадение с дадения момент. Дори капитанът застана като стълб сред стаята, зяпнал и ужасно глупаво вторачен във вратата.
И ето че от голямата и продълговата съседна стая се раздадоха бързи приближаващи се крачки, малки, извънредно ситни крачки; някой като да подтичваше, и внезапно в гостната се втурна — не, не Николай Всеволодович, а един съвсем и никому непознат млад човек.
V
Позволявам си да поспра за малко и макар с няколко бегли щрихи, да опиша това внезапно появило се лице.
Беше млад човек, на двайсет и седем години, или там някъде, малко по-висок от средния ръст, с рядка руса, доста дълга коса и едва наболи тук-там на фъндъци брада и мустаци. Облечен чисто и дори по модата, но не контешки; на пръв поглед сякаш попрегърбен и тромав, но всъщност не беше нито прегърбен, нито тромав, а точно обратното. И уж че чудак, обаче впоследствие всички намираха маниерите му за твърде прилични, а приказките — винаги на място.
Никой не би казал, че е грозен, но лицето му не се хареса на никого. Главата му е удължена към тила и сякаш сплесната отстрани, тъй че лицето му изглежда остро. Челото му е високо и тясно, но чертите на лицето са дребни; остър поглед, носле — малко и заострено, дълги и тънки устни. Изразът на лицето му е сякаш болезнен, но това е само външно. Има някаква суха гънка на бузите и около скулите, което го прави да изглежда като оздравяващ след тежка болест. Той обаче е напълно здрав, силен и дори никога не е боледувал.
Ходи и се движи твърде бързо, но за никъде не бърза. Изглежда, като че ли с нищо не може да бъде смутен; при всички обстоятелства и в какъвто и да било кръг си остава все същият. Самодоволството му е голямо, но самият той просто не го забелязва.
Говори бързо, припряно, но същевременно самоуверено и не си търси думите. Въпреки припрения му вид мислите му са спокойни, ясни и категорични — и това особено бие на очи. Изговорът му е удивително ясен: думите му се ронят като едри, добре заоблени зрънца, винаги подбрани и винаги на услугите ви. Отначало това се харесва, но после почва да отблъсква, и именно заради тоя прекалено ясен изговор, заради тоя низ от вечно готови думи. Започва някак да ви се струва, че самият му език в устата трябва да има някаква особена форма, да е някак необикновено дълъг, тънък, ужасно червен и с изключително остро връхче, което непрестанно и съвсем неволно се върти.
Та тъкмо този млад човек беше нахълтал сега в гостната и което е право, и досега ми се струва, че беше почнал да говори още от съседната стая и говорейки, беше влязъл. Той тутакси се озова пред Варвара Петровна.
— … Представете си, Варвара Петровна — нижеше той като мъниста, — влизам и мисля да го заваря тук още отпреди четвърт час; час и половина, откак е пристигнал; намерихме се у Кирилов; преди половин час тръгна право насам и каза и аз да съм дойдел след четвърт час…
— Кой това? Кой ви каза да дойдете тук? — разпитваше Варвара Петровна.
— Кой, Николай Всеволодович! Ама вие наистина ли чак сега научавате? Но поне багажът му отдавна трябваше да е пристигнал, как тъй не са ви казали? Излиза, че аз пръв ви известявам. Би могло обаче да се прати да го потърсят, но впрочем самият той сигурно веднага ще се появи и струва ми се, в един момент, който тъкмо отговаря на някои негови очаквания и, поне доколкото мога аз да съдя, на някои негови пресмятания. — Тук той обходи с поглед стаята и особено внимателно се спря на капитана. — Ах, Лизавета Николаевна, колко се радвам, че ви срещам още в първия миг, много се радвам да ви стисна ръката — бързо се впусна той към нея, за да поеме протегнатата ръчица на весело усмихнатата Лиза, — и доколкото забелязвам, многоуважаемата Прасковя Ивановна също не е забравила, струва ми се, своя „професор“ и дори не му се сърди, както винаги му се сърдеше в Швейцария. Е, как са тук краката ви, Прасковя Ивановна, и правилно ли ви осъди швейцарският консилиум на родния климат?… Как, моля? Компреси? Трябва да е много полезно. Но как съжалявах, Варвара Петровна (бързо се обърна той отново), че не можах да ви заваря тогава в странство и лично да ви засвидетелствам уважението си, при това толкова неща имах да ви съобщя… Аз уведомявах тук моя старец, но той по обичая си, струва ми се…
— Петруша! — извика Степан Трофимович, съвземайки се моментално от вцепеняването; той плесна ръце и се хвърли към сина си. — Pierre, mon enfant[11], не можах да те позная! — стисна го в прегръдките си и от очите му потекоха сълзи.
— Хайде, не щурей, не щурей, без жестове, хайде, стига де, стига, моля те — бързо мърмореше Петруша, мъчейки се да се освободи от прегръдките.
— Винаги, винаги съм бил виновен пред теб!
— Хайде, стига вече; после за това. Знаех си го, че ще изщурееш. Хайде, бъди малко по-трезв, моля те.
— Но аз не съм те виждал десет години!
— Толкова по-малко причини за излияния…
— Mon enfant!
— Хайде, вярвам, вярвам, че ме обичаш, махни си ръцете. Виж, че пречиш на другите… Ах, ето го и Николай Всеволодович, ама стига щуря де, моля те най-сетне!
Николай Всеволодович действително беше вече в стаята; беше влязъл много тихо и за миг се бе спрял на вратата, оглеждайки със спокоен поглед присъстващите.
Както и преди четири години, когато го видях за първи път, точно по същия начин и сега бях поразен от пръв поглед. Ни най-малко не бях го забравил; но има, види се, такива физиономии, които винаги, всеки път, когато се появят, носят сякаш със себе си нещо ново, което не сте забелязали у тях, макар да сте се срещали сто пъти дотогава. Изглежда, той си бе все тоя отпреди четири години: все тъй изящен, все тъй важен, все туй важно влизане, както тогава, дори все тъй млад. Леката му усмивка бе все тъй официално ласкава и все тъй самодоволна; погледът все тъй строг, замислен и някак разсеян. Но едно ме порази: преди, макар и да го смятаха за красавец, но лицето му наистина „приличаше на маска“, както се изразяваха някои от нашите злоезични дами. А сега — не знам защо, сега той от пръв поглед ми се видя истински, безспорен красавец, тъй че просто нямаше вече как да се каже, че лицето му прилича на маска. Дали не за това, че беше станал мъничко по-бледен отпреди и бе май поотслабнал? Или може би някаква нова мисъл светеше сега в погледа му?
— Николай Всеволодович! — извика Варвара Петровна, изпъвайки се цялата в креслото, но без да стане, и го спря с повелителен жест: — Чакай за момент!
Но за да обясня ужасния въпрос, внезапно последвал след жеста и възклицанието на Варвара Петровна — не, дори за нея не съм допускал, че може да зададе такъв въпрос, — ще помоля читателя да си спомни какво представляваше всъщност характерът на Варвара Петровна и необикновената й експлозивност в някои изключителни моменти. Моля също така да се вземе предвид, че въпреки необикновената душевна твърдост, значителна доза здрав разум и практическия, тъй да се каже, дори стопански такт, които тя имаше, в живота й все пак не свършваха ония мигове, на които тя внезапно се отдаваше докрай, всецяло и ако е позволено да се изразя така — без никакви задръжки. Моля да се вземе най-сетне под внимание, че настоящата минута наистина би могла да бъде за нея от онези, в които изведнъж, като във фокус се съсредоточава цялата същност на живота — всичко изживяно, цялото настояще, че комай и бъдещето. Ще напомня между другото и за анонимното писмо, което бе получила, за което тъй нервно се бе изтървала одеве пред Прасковя Ивановна, при което все пак бе премълчала съдържанието му; а може би тъкмо то би дало отговор — как бе могла да зададе на сина си този ужасен въпрос.
— Николай Всеволодович — повтори тя, изричайки думите с твърд глас, в който звучеше страшно предизвикателство, — моля ви, веднага кажете, направо: вярно ли, че тази нещастна, куца жена — ето я, ето там, погледнете я! — вярно ли, че тя е… ваша законна съпруга?
Твърде добре го помня тоя миг; той втренчено гледаше майка си, но не трепна дори с клепка; не последва ни най-малко изменение на лицето му. Най-сетне бавно се усмихна с някаква снизходителна усмивка и без да продума дума, бавно се приближи до майка си, улови ръката й, почтително я поднесе до устните си и я целуна. И дотам бе силно всякогашното му непреодолимо влияние върху майка му, че тя и сега не посмя да отдръпне ръката си. Само го гледаше, превърнала се цялата във въпрос, и целият й вид говореше, че още миг само, и тя няма да понесе неизвестността.
Но той продължаваше да мълчи. След като й целуна ръка, още веднъж обгърна с поглед цялата стая и все тъй без да бърза, тръгна бавно към Маря Тимофеевна. Много трудно е да се описват физиономиите на хората в някои моменти. Аз например съм запомнил, че Маря Тимофеевна, цялата примряла от страх, стана насреща му и събра отпред длани, сякаш умолявайки го; а заедно с това съм запомнил и възторга в очите й, някакъв безумен възторг, който почти изкриви чертите й — възторг, който трудно се понася. Може да го е имало и едното, и другото, и страхът, и възторгът; но помня, че побързах да се приближа (стоях почти до нея), сторило ми се бе, че ей сега ще припадне.
— Не бива да стоите тук — каза й Николай Всеволодович с ласкав, мелодичен глас и в очите му грейна необикновена нежност. Стоеше пред нея в най-почтителна поза и от всеки негов жест лъхаше най-искрено уважение. Горката женица със забързан шепот, задъхано избъбри:
— А бива ли… сега… да падна пред вас на колене?
— Не, по никой начин не бива — отправи й той великолепна усмивка, тъй внезапно, че и тя се усмихна радостно. И със същия мелодичен глас, увещавайки я най-нежно, също като дете, важно добави:
— Помислете си за това, че сте девойка, а аз, макар и да съм най-преданият ви приятел, но все пак съм един страничен за вас човек, нито мъж, нито баща, нито годеник. Дайте ми ръката си и да вървим; ще ви изпратя до каретата и ако позволите, лично ще ви отведа в дома ви.
Тя го изслуша и някак замислено кимна с глава.
— Да вървим — каза тя с въздишка и му подаде ръка.
Но тук с нея се случи едно малко нещастие. Изглежда, че бе стъпила някак непредпазливо на болния си, по-късия крак, защото изведнъж политна настрани върху креслото и да не бе това кресло, щеше да падне на пода. Той моментално я поде и подкрепи, хвана я здраво под ръка и със съчувствие, внимателно я поведе към вратата. Тя явно бе огорчена от падането си, смути се, изчерви се и ужасно се засрами. Гледайки мълчаливо надолу и силно накуцвайки, тя закрета подир него, почти увиснала на ръката му. Тъй и излязоха. Докато излизаха, Лиза, кой знае защо, скочи от мястото си и със замръзнал поглед ги проследи до самата врата. После мълчаливо отново седна, но по лицето й мина някаква конвулсивна тръпка, сякаш се беше докоснала до някакво влечуго.
Докато се разиграваше тази сцена между Николай Всеволодович и Маря Тимофеевна, всички изумено мълчаха; муха да бръмнеше, щеше да се чуе; но веднага щом излязоха, всички изведнъж заговориха.
VI
Говорехме впрочем малко, а повечето възклицавахме. Сега съм позабравил как беше всичко подред, защото бе настъпила бъркотия. Степан Трофимович извика нещо на френски и плесна с ръце, но на Варвара Петровна не й беше до него. Дори Маврикий Николаевич измърмори нещо отсечено и бързо. Но най-много от всички се горещеше Пьотър Степанович; с широки жестове той убеждаваше в нещо Варвара Петровна, но дълго не можах да го разбера. Обръщаше се и към Прасковя Ивановна и Лизавета Николаевна, мимоходом ядосано подвикна нещо дори на баща си — с една дума, щъкаше из цялата стая. Варвара Петровна, цялата червена, скочи по едно време от мястото си и викна на Прасковя Ивановна: „Чу ли, чу ли го какво й каза сега?“ Но онази беше толкова слисана, че само измърмори нещо и махна с ръка. Тя горката си имаше своя грижа: непрекъснато въртеше глава към Лиза, поглеждайки я с някакъв инстинктивен страх, а да стане и си тръгне, и да помисли дори не смееше, докато не станеше дъщеря й. Междувременно капитанът май искаше да се измъкне, забелязах го, безспорно бе много уплашен още от момента, в който се появи Николай Всеволодович; но Пьотър Степанович го беше хванал за ръката и не му даде да си отиде.
— Това е необходимо, необходимо е — нижеше той, продължавайки все още да убеждава Варвара Петровна. Стоеше пред нея, а тя вече пак седеше в креслото си и помня колко жадно го слушаше; успял бе все пак, завладял й беше вниманието.
— Необходимо е. Нали виждате, Варвара Петровна, че тук има недоразумение и наглед всичко е много странно, а всъщност работата е ясна като две и две и проста като фасул. Аз твърде добре разбирам, че никой не ме упълномощавал да разказвам, и май ставам дори смешен, дето сам се натрапвам. Но най-напред самият Николай Всеволодович не придава на тази работа никакво значение, а най-сетне има случаи, когато човек трудно може да се реши лично да обяснява и с това непременно трябва да се нагърби трето лице, на което е по-лесно да каже някои деликатни неща. Повярвайте, Варвара Петровна, че Николай Всеволодович ни най-малко няма вина, дето тутакси не отговори на одевешния ви въпрос с едно радикално обяснение, въпреки че цялата работа пет пари не чини; всичко това аз го зная още от Петербург. При това целият случай прави само чест на Николай Всеволодович, щом непременно трябва да употребим тази неопределена дума „чест“.
— Искате да кажете, че сте били свидетел на някаква случка, от която е произлязло… това недоразумение? — попита Варвара Петровна.
— Свидетел и участник — бързо потвърди Пьотър Степанович.
— Ако ми давате дума, че това няма да засегне деликатността на Николай Всеволодович относно чувствата и доверието му към мен, от която той нищо не крие… и щом сте толкова сигурен, че това ще му бъде дори приятно…
— Непременно ще му бъде приятно и затова и за мен ще бъде едно удоволствие. Сигурен съм, че самият той би ме помолил.
Натрапчивото желание на този сякаш паднал от небето господин да разказва чужди истории беше доста странно и излизаше от рамките на общоприетото. Но Варвара Петровна се бе хванала на въдицата му, защото я бяха засегнали на болното място. Тогава аз още не познавах добре характера на този човек, а още по-малко — намеренията му.
— Говорете — сдържано и предпазливо разреши Варвара Петровна, измъчвайки се донейде от снизхождението си.
— То няма нищо за разказване; дори, ако щете, няма никаква история — пак взе да ниже той. — Впрочем от немай-къде един романист би могъл да изфабрикува и цял роман. Твърде занимателна историйка, Прасковя Ивановна, и аз съм сигурен, че Лизавета Николаевна с любопитство ще я изслуша, защото тук има много ако не чудни, то чудновати неща. Преди пет години в Петербург Николай Всеволодович се запозна ей с тоя господин — този, същият господин Лебядкин, който стои със зяпнала уста и май току-що се бе приготвил да офейка. Извинете, Варвара Петровна. Аз впрочем не ви съветвам да офейквате, господин бивш чиновнико от бившето интендантско ведомство (виждате ли, че отлично ви помня). И на мен, и на Николай Всеволодович са ни твърде известни тукашните ви поразии, за които, не го забравяйте, ще трябва да отговаряте. Още веднъж моля за извинение, Варвара Петровна. Николай Всеволодович наричаше тогава този господин своя Фалстаф[12]; това трябва да е (поясни той внезапно) някакъв типаж — burlesque[13], над който всички се смеят и който позволява на всички да му се смеят, стига да му се плаща. По това време Николай Всеволодович водеше в Петербург един живот, тъй да се каже, присмехулен, — с една дума, не мога да го определя, защото не е от хората, които ще изпаднат в разочарование, а тогава беше пренебрегнал всякакви занимания. Говоря само за тогава, Варвара Петровна. Тоя Лебядкин имаше сестра — същата тази, която сега седеше тука. Братчето и сестричето нямаха дори едно кьоше, ами се скитаха по хорските къщи. Той се шляеше под сводовете на Гостинния двор[14], обезателно с бившия си мундир, и спираше минувачите от по-първа ръка, а каквото събереше, го проливаше. Сестричето караше като птичка божия. Помагаше, където ги приютяха, и от немотия слугуваше. Истински Содом; отминавам картината на този несретен живот — живот, който, тласкан от чудачеството си, водеше тогава Николай Всеволодович. Говоря само за тогава, Варвара Петровна, а що се отнася до „чудачеството“, това е негов собствен израз. Той много неща не крие от мен. Mademoiselle Лебядкина, която по едно време твърде често виждаше Николай Всеволодович, бе потресена от неговата външност. Това бе, тъй да се каже, диамант върху мръсния фон на живота й. Аз съм лош описвач на чувствата и затова ги отминавам; но разни долнопробни душици тутакси я взеха на подбив и тя страдаше. Нея отдавна я бяха взели на подбив, но по-рано тя въобще не го забелязваше. Още тогава не бе наред с главата, но все пак не чак като сега. Има основание да се предполага, че като малка може би е получила нещо като възпитание. Николай Всеволодович никога не й е обръщал никакво внимание, той повечето играеше с чиновниците на преферанс по на четвърт копейка с едни стари мазни карти. Но веднъж, като я оскърбяваха, той (без да разпитва за причините) хвана един чиновник за яката и го изхвърли през прозореца от втория етаж. Не става дума за никакви рицарски пориви в полза на оскърбената невинност; цялата операция мина при всеобщ смях и най-много се смееше самият Николай Всеволодович; когато всичко приключи благополучно, се сдобриха и взеха да пият пунш. Но самата оскърбена невинност не можа да забрави случая. Свърши се, разбира се, с това, че тя окончателно си загуби ума. Повтарям, не умея да описвам чувства, но главното в случая е мечтата. А Николай Всеволодович, сякаш нарочно, още повече подклаждаше мечтата: вместо да се изсмее, той внезапно взе да се отнася към mademoiselle Лебядкина с неочаквано уважение. Кирилов, който беше там (изключителен оригинал, Варвара Петровна, и изключително троснат човек; може би ще го видите някога, сега е тука), та тоя Кирилов, който обикновено все си мълчи, изведнъж се разгорещи и обърна внимание, помня го, на Николай Всеволодович, че третирал госпожата като маркиза и с това окончателно я довършил. Ще добавя, че Николай Всеволодович уважаваше донякъде този Кирилов. Какво си мислите му отговори: „Вие, господин Кирилов, смятате, че аз се подигравам; не сте прав, аз наистина я уважавам, защото тя е по-добра от всички нас.“ И знаете ли, с такъв един сериозен тон го каза. Впрочем през тия два-три месеца освен „добър ден“ и „довиждане“ не й беше казвал всъщност нито дума. Аз, който бях там, със сигурност си спомням, че най-накрая тя бе стигнала дотам, че го смяташе вече за нещо като годеник, който не смеел да я „похити“ единствено защото имал много врагове и семейни пречки или нещо подобно. Голям смях падаше! Свърши се с това, че когато Николай Всеволодович тръгна последния път за насам, на заминаване се разпореди за издръжката й, отреди й една твърде значителна ежегодна сума, най-малкото триста рубли, ако не и повече. С една дума, да приемем, че всичко това е било от негова страна един каприз, както казваше Кирилов, един нов етюд на преситения човек с цел да види докъде може да се докара едно смахнато и недъгаво същество. „Вие, казва, нарочно избрахте най-загубеното същество, недъгаво, затънало във вечен позор и побоища — и знаейки отгоре на туй, че това същество умира от комичната си любов към вас, нарочно започвате да го баламосвате единствено за да видите какво ще излезе от всичко това!“ Какво толкова е виновен най-сетне човекът за фантазиите на една смахната жена, с която, забележете, през цялото време едва ли си е разменил и една-две фрази! Има неща, Варвара Петровна, за които не само че не може да се говори умно, но не е и разумно да се говори. Но, хайде, да кажем чудачество — но в никакъв случай повече от това, а междувременно сега от това са направили цяла история… На мен отчасти ми е известно какво става тук, Варвара Петровна.
Разказвачът изведнъж прекъсна и понечи да се обърне към Лебядкин, но Варвара Петровна го спря; изпаднала беше в истинска екзалтация.
— Свършихте ли? — попита тя.
— Не още; за да бъде пълна картината, бих искал, с ваше позволение, да поразпитам за туй-онуй този тук господин… Сега ще видите каква е работата, Варвара Петровна.
— Достатъчно, после, спрете за малко, моля ви. О, колко добре направих, че ви позволих да говорите!
— И забележете, Варвара Петровна — оживи се Пьотър Степанович, — би ли могъл одеве Николай Всеволодович да ви обясни всичко това в отговор на вашия, може би прекомерно категоричен въпрос.
— О, да, прекомерно!
— И не бях ли прав, казвайки, че в известни случаи на трети човек му е много по-лесно да обясни, отколкото на самия заинтересован!
— Да, да… Но в едно сте сгрешили вие и със съжаление виждам — продължавате да грешите.
— Нима? В какво?
— Виждате ли… Впрочем може би ще седнете, Пьотър Степанович.
— О, както ви е угодно на вас, аз наистина се поизморих, благодаря ви.
Той моментално дръпна едно кресло и го обърна тъй, че се озова до масата между Варвара Петровна и Прасковя Ивановна, с лице към господин Лебядкин, от когото не сваляше очи нито за миг.
— Грешката ви е там, че наричате всичко това „чудачество“…
— О, ако е само това…
— Не, не, почакайте — спря го Варвара Петровна, явно готвейки се много и с увлечение да говори. В мига, в който го забеляза, Пьотър Степанович целият се превърна във внимание.
— Не, това е било нещо по-висше от чудачество и аз ви уверявам, нещо свято дори! Човек, горд и рано оскърбен, стигнал до онази „присмехулност“, която вие тъй сполучливо споменахте — с една дума, принц Хари, както великолепно го сравни тогава Степан Трофимович и което би било съвсем вярно, ако не приличаше повече на Хамлет, поне аз тъй мисля.
— Et vous avez raison[15] — прочувствено и с тежест се обади Степан Трофимович.
— Благодаря ви, Степан Трофимович, на вас съм ви особено благодарна и тъкмо за всякогашната ви вяра в Nicolas, във възвишеността на неговия дух и на призванието му. Вие поддържахте тази вяра и у мен, когато съм падала духом…
— Chère, chère… — и Степан Трофимович понечи да пристъпи напред, но се спря, схващайки, че е опасно да я прекъсва.
— И ако край Nicolas (отчасти вече пееше Варвара Петровна) винаги бе стоял спокойният, велик в смирението си Хорацио — друг един чудесен ваш израз, Степан Трофимович, — той може би отдавна би бил един спасен от тъжния и „внезапен демон на иронията“, който цял живот го е терзал. (За „демона на иронията“ е пак един чудесен ваш израз, Степан Трофимович.) Но Nicolas никога не е имал нито своя Хорацио, нито своята Офелия. Имал е само и единствено своята майка, но какво би могла да направи само майката, и то при такива обстоятелства? Знаете ли, Пьотър Степанович, на мен ми става дори изключително ясно, че същество като Nicolas е могло да се движи дори и в онези мръсни коптори, за които вие разказвахте. Аз тъй ясно виждам сега онази „присмехулност“ към живота (удивително точен ваш израз), онази ненаситна жажда за контраст, онзи мрачен фон на картината, върху която той изглежда като диамант, отново според вашето сравнение, Пьотър Степанович. И ето че среща там едно отвред отритнато същество, недъгаво, полубезумно и същевременно може би с най-благородни чувства!
— Хм, да, възможно.
— И след това ви е чудно, че не й се присмива, както всички! О, хора! Чудно ви е, че я защитава от онези, които я обиждат, оказва й уважение като на „маркиза“ (този Кирилов, види се, необикновено дълбоко познава хората, макар и да не е разбрал Nicolas!). Ако щете, тук именно, от този контраст, е произлязла бедата; ако нещастницата е била в една по-друга обстановка, не би стигнала може би до такава умопомрачителна мечта. Само жената, само една жена може да разбере това, Пьотър Степанович, и колко жалко, че вие… тоест не че не сте жена, но поне в дадения случай, за да разберете!
— Тоест в тоя смисъл, че колкото по-зле, толкова по-добре, разбирам, разбирам, Варвара Петровна. Това е нещо като в религията, нали: колкото по-зле живее човек или колкото по-беден е цял един народ, толкова по-упорито мечтае за възмездие в рая, а ако при това се разшетат и едно сто хиляди свещеници да разпалват мечтата и да спекулират с нея, то… разбирам ви, Варвара Петровна, бъдете спокойна.
— Това, да предположим, не е съвсем тъй, но кажете, нима за да угаси мечтата в този нещастен организъм (защо Варвара Петровна употреби думата „организъм“, аз не можах да разбера), нима за това и Nicolas трябваше да й се присмива и да се отнася с нея, както другите чиновници? Нима наистина отхвърляте онова високо състрадание, онзи внезапен благороден трепет на организма, с който Nicolas строго отговаря на Кирилов: „Аз не се подигравам!“ Възвишен, свят отговор!
— Sublime[16] — измърмори Степан Трофимович.
— И забележете, той съвсем не е толкова богат, както си мислите; богата съм аз, а не той, а тогава той почти нищо не вземаше от мен.
— Разбирам, разбирам всичко това, Варвара Петровна — вече малко нещо нетърпеливо се размърда Пьотър Степанович.
— О, това е моят характер! Себе си виждам в Nicolas. Виждам онази младост, онази възможност за бурни и страшни пориви… И ако някой ден станем по-близки, Пьотър Степанович, което аз от своя страна най-искрено желая, още повече че съм ви тъй задължена, тогава може би ще разберете…
— О, повярвайте ми, аз от своя страна го желая — троснато избърбори Пьотър Степанович.
— Тогава ще разберете онзи порив, онзи пристъп на благородна слепота, поради който внезапно вземате един дори във всяко отношение недостоен за вас човек, човек, който дълбоко не ви разбира, който е готов да ви мъчи при всяка първа възможност, и въпреки всичко внезапно превръщате такъв един човек в някакъв идеал, в своя мечта, възлагате му всичките си надежди, прекланяте му се, обичате го цял живот, без ни най-малко да знаете защо — може би тъкмо защото е недостоен за това…
Степан Трофимович с болезнен израз взе да търси погледа ми; но аз навреме се бях извърнал.
— … И дори доскоро, доскоро — о, колко съм виновна пред Nicolas!… Няма да повярвате, измъчиха ме от всички страни, всички, всички, и врагове, и нищожества, и приятели; приятелите може би повече от враговете. Когато ми пратиха първото презряно анонимно писмо, Пьотър Степанович, няма да го повярвате, но на мен вече не ми стигаше презрение в отговор на всичката тая злоба… Никога, никога няма да си простя малодушието!
— Аз въобще вече подочух нещичко за тукашните анонимни писма — оживи се внезапно Пьотър Степанович — и аз ще ви открия авторите, оставете на мен.
— Но вие не можете да си представите какви интриги се започнаха тук! — измъчиха дори клетата ни Прасковя Ивановна — нея пък поради каква причина? Аз днес съм може би твърде виновна пред тебе, мила ми Прасковя Ивановна — прибави тя във великодушния порив на умилението си, но не и без известна победоносна ирония.
— Недей, сестро — измърмори неохотно Прасковя Ивановна, — мен да питат, на туй трябва да му се тури вече край; много нещо се изприказва… — и пак погледна плахо Лиза, но тя гледаше Пьотър Степанович.
— А това клето, това нещастно същество, тази луда, изгубила всичко и запазила само сърцето си, възнамерявам да осиновя — възкликна внезапно Варвара Петровна, — това е мой дълг, който възнамерявам свято да изпълня. От тоя ден аз я вземам под своя закрила!
— И ще бъде много хубаво в известен смисъл — окончателно се оживи Пьотър Степанович. — Извинете, аз одеве не завърших. Именно относно покровителството. Представяте ли си, когато Николай Всеволодович тогава си тръгна (почвам тъкмо от мястото, където бях стигнал, Варвара Петровна), този господин, да, същият този господин Лебядкин моментално си въобразил, че може изцяло да се разпорежда с определената за сестричето му издръжка; и се разпореждал. Не зная как точно е уредил нещата Николай Всеволодович тогава, но година по-късно, вече в странство, научавайки за станалото, той се видя принуден да постъпи по друг начин. Не знам подробностите, самият той ще ги разкаже, но знам само, че интересуващата ни особа е била настанена в някакъв далечен манастир, дори твърде комфортно, но под приятелски надзор — нали разбирате? И какво, мислите, предприема господин Лебядкин? Отначало полага всички усилия да изнамери къде са скрили от него доходното перо, тоест сестричето му, едва наскоро постига целта си, взема я от манастира, предявявайки някакви свои права, и я довежда право тука. Тук я държи гладна, бие я, тормози я, най-сетне получава по някакъв начин от Николай Всеволодович една значителна сума и тутакси го удря на пиянство, а вместо благодарност стига до дръзко предизвикателство към Николай Всеволодович, до безсмислени искания, заплашвайки със съд, в случай че издръжката не се изплаща занапред лично нему. Доброволния дар на Николай Всеволодович той взема за данък — представяте ли си? Господин Лебядкин, вярно ли е всичко това, което казах?
Капитанът, който до тоя момент стоеше мълчаливо и със сведен поглед, бързо пристъпи две крачки напред и целият почервеня.
— Пьотър Степанович, вие постъпихте с мен жестоко — каза той някак отривисто.
— Как тъй жестоко и защо? Моля, моля, да оставим за после жестоко ли е, не е ли жестоко, а сега ви моля само да отговорите на първия въпрос: вярно ли е всичко, което казах тук, или не? Ако намерите, че не е вярно, можете незабавно да си кажете възраженията.
— Аз… вие много добре знаете, Пьотър Степанович… — измънка капитанът, запъна се и млъкна. Трябва да се отбележи, че Пьотър Степанович седеше в креслото, прехвърлил крак върху крак, а капитанът стоеше пред него в най-почтителна поза.
Колебанията на господин Лебядкин, изглежда, крайно не се харесаха на Пьотър Степанович; по лицето му премина някаква злобна тръпка.
— Ама вие като че ли наистина искате да ни съобщите нещо? — впери той остър поглед в капитана. — В такъв случай карайте, моля, чакаме.
— Вие, Пьотър Степанович, много добре знаете, че нищо не мога да съобщавам.
— Не, не знам и дори за първи път чувам; защо тъй да не можете да съобщавате?
Капитанът мълчеше, забил очи в земята.
— Позволете да си вървя, Пьотър Степанович — каза той решително.
— Но не преди да сте дали някакъв отговор на първия ми въпрос: вярно ли е всичко, което казах?
— Вярно е — глухо отговори Лебядкин и вдигна очи към мъчителя си. Дори пот изби по слепоочието му.
— Всичко ли е вярно?
— Всичко е вярно.
— Нямате ли да добавите, да кажете нещо? Ако чувствате, че сме несправедливи, кажете го; протестирайте, изкажете гласно недоволството си.
— Не, нямам какво.
— Заплашвали ли сте неотдавна Николай Всеволодович?
— Това… това беше повече от водката, Пьотър Степанович (той изведнъж вдигна глава). Пьотър Степанович, ако фамилната чест и позорът, който сърцето не е заслужило, напират навън, и тогава ли, и тогава ли е виновен човек? — изрева той, внезапно забравил се, както по-преди.
— А сега трезвен ли сте, господин Лебядкин? — пронизително го изгледа Пьотър Степанович.
— Аз… трезвен съм.
— Какво искате да кажете с тия приказки за фамилна чест и незаслужен позор?
— Аз не че съм имал някого предвид. Аз за себе си… — отново рухна капитанът.
— Вие май много се обидихте на изразите ми за вас и вашето поведение? Вие сте твърде докачлив, господин Лебядкин. Но моля ви, ами че аз още не съм почнал да говоря за истинското ви поведение. Аз ще почна да говоря за истинското ви поведение. Ще почна, да, много вероятно и това да стане, но нали знаете, че още не съм почнал да говоря за него.
Лебядкин потръпна и диво се вторачи в Пьотър Степанович.
— Пьотър Степанович, аз едва сега започвам да се събуждам.
— Хм! И аз ли съм тоя, дето ви събуди?
— Да, вие ме събудихте, Пьотър Степанович, аз четири години съм спал под надвисналия облак. Мога ли най-сетне да се оттегля, Пьотър Степанович?
— Вече можете, стига само Варвара Петровна да не смята за необходимо…
Но тя замаха с ръце.
Капитанът се поклони, направи две крачки към вратата, внезапно спря, сложи ръка на сърцето си, искаше да каже нещо, но не каза и бързо изтича навън. Но на прага се сблъска с Николай Всеволодович, който му направи път; капитанът обаче някак изведнъж се сви, смали се, опули се насреща му, буквално както заекът замира пред питона. Николай Всеволодович изчака малко, после лекичко го отстрани с ръка и влезе в гостната.
VII
Беше весел и спокоен. Може би току-що му се бе случило нещо много хубаво, което ние още не знаехме; но той, изглежда, бе дори твърде доволен от него.
— Ще ми простиш ли, Nicolas? — не изтрая Варвара Петровна и бързо се повдигна насреща му.
Но Nicolas просто се разсмя.
— Туйто! — възкликна той добродушно и шеговито. — Виждам, че вече всичко ви е известно. А пък аз, щом излязох оттука, и се замислих в каретата: „Трябваше поне да им разкажа историята, кой си излиза така като мене?“ Но щом се сетих, че Пьотър Степанович остана, грижата ми отпадна.
Докато говореше, очите му шареха наоколо.
— Пьотър Степанович ни разказа една стара петербургска история из живота на един чудак — възторжено поде Варвара Петровна, — един капризен и луд човек, но винаги възвишен в чувствата си, винаги рицарски благороден…
— Рицарски? Нима дотам стигнахте? — смееше се Nicolas. — Впрочем аз съм много благодарен на Пьотър Степанович, този път за това, че е избързал (тук те бързо се спогледаха). Трябва да знаете, maman, че Пьотър Степанович е всеобщ примирител; това е неговата роля, болестта му, силата му, и аз особено ви го препоръчвам откъм тая страна. Досещам се какви ги е нанизал. Той именно ниже, когато разказва; главата му е цяла канцелария. Забележете, че в качеството си на реалист той не може да излъже и че истината му е по-скъпа от успеха… разбира се, освен ония особени случаи, когато успехът е по-скъп от истината. (Казвайки всичко това, той непрекъснато се оглеждаше.) Тъй че вие ясно виждате, maman, че не сте вие, която трябва да искате прошка, и че ако тук някъде има лудост, то това е преди всичко от моя страна, и значи, че в края на краищата аз съм все пак луд — нали трябва да се поддържа тукашната ми репутация…
Тук той нежно прегърна майка си.
— Във всеки случай въпросът вече е приключен и изчерпан, и значи, можем да му сложим точка — прибави той и някаква суха, твърда нотка прозвуча в гласа му. Варвара Петровна долови тази нотка; но екзалтацията й не преминаваше, даже напротив.
— Никак не съм те очаквала по-рано от месец, Nicolas.
— Аз, разбира се, ще ви обясня всичко, maman, а сега…
И той тръгна към Прасковя Ивановна.
Но тя едва-едва обърна глава към него, въпреки че само преди половин час, когато се бе появил, беше потресена. Сега тя си имаше нови грижи: от момента, когато на излизане капитанът се бе сблъскал на вратата с Николай Всеволодович, Лиза внезапно взе да се смее — отначало тихо и поривисто, но постепенно смехът й ставаше все по-силен, по-висок и неприкрит. Беше почервеняла. Контрастът с предишния й мрачен израз беше изключителен. Докато Николай Всеволодович приказваше с Варвара Петровна, тя на два пъти беше викала с пръст Маврикий Николаевич, уж че иска да му прошепне нещо; но в момента, когато той се навеждаше към нея, прихваше да се смее; човек можеше да си помисли, че се смее тъкмо на горкия Маврикий Николаевич. Тя впрочем явно се мъчеше да се сдържа и слагаше кърпичка на устата си. Николай Всеволодович я поздрави с най-невинен и простодушен израз.
— Моля ви да ме извините — отвърна тя бързешката, — вие… вие, разбира се, сте се виждали с Маврикий Николаевич… Боже, ама вие сте неприлично висок, Маврикий Николаевич!
И пак смях. Маврикий Николаевич беше висок на ръст, но не пък чак толкова неприлично.
— Отдавна ли пристигнахте? — промърмори тя, отново сдържайки се и дори сконфузено, но с искрящи очи.
— Преди около два часа и нещо — отвърна Nicolas, гледайки я внимателно. Ще отбележа, че беше необикновено сдържан и учтив, но като махнем учтивостта, изглеждаше напълно равнодушен и дори вял.
— А къде ще живеете?
— Тук.
Варвара Петровна също наблюдаваше Лиза, но внезапно я беше поразила една мисъл.
— А къде си бил досега през тези два часа и нещо, Nicolas? — приближи се тя. — Влакът пристига в десет.
— Отначало откарах Пьотър Степанович у Кирилов. А с Пьотър Степанович се срещнахме в Матвеево (на три спирки оттук) и пътувахме в един вагон.
— Аз от сутринта чаках в Матвеево — обади се Пьотър Степанович, — задните ни вагони през нощта излязоха от релсите, насмалко не си изпочупихме краката.
— Краката си изпочупили! — извика Лиза. — Маман, маман, а ние искахме да ходим миналата седмица в Матвеево, и ние щяхме да си изпочупим краката!
— Господи помилуй! — прекръсти се Прасковя Ивановна.
— Маман, маман, вие не се бойте, миличка, ако наистина си счупя и двата крака; на мен това може и да ми се случи, нали казвате, че всеки ден съм препускала презглава. Маврикий Николаевич, ще ме водите ли, като окуцея? — пак се разсмя тя. — Ако това ми се случи, на никого няма да дам да ме води освен на вас, смело разчитайте. Хайде, да кажем, че само единия крак съм си счупила… Хайде, бъдете любезен, кажете, че за вас това ще бъде щастие.
— Какво щастие с един крак? — сериозно се намръщи Маврикий Николаевич.
— Затова пък вие ще ме водите, само вие и никой друг.
— И тогава пак вие мене ще водите, Лизавета Николаевна — още по-сериозно избоботи Маврикий Николаевич.
— Боже, та той искаше да каже каламбур! — почти с ужас извика Лиза. — Маврикий Николаевич, да не сте посмели да тръгвате по тоя път! Но до каква степен сте били егоист, значи! За ваша чест обаче аз съм убедена, че сега самичък се клеветите; напротив, тогава вие от сутрин до вечер ще ме уверявате, че без крака съм станала по-интересна! Едно е непоправимо — вие сте безкрайно висок, а без крака аз ще стана съвсем мъничка, как ще ме водите под ръка, няма да сме си прилика!
И тя болезнено се разсмя. Остротите и намеците й бяха плоски, но, види се, не й беше до остроумия.
— Истерика! — прошушна ми Пьотър Степанович. — По-скоро чаша вода.
Беше познал; след минута всички вече се суетяха, донесоха вода. Лиза прегръщаше своята маман, целуваше я горещо, ридаеше на гърдите й и тутакси се отдръпваше назад и вглеждайки се в лицето й, започваше да се киска. Накрая взе да хленчи и маман. Варвара Петровна побърза да отведе и двете в покоите си, през същата онази врата, от която бе влязла Даря Павловна. Но не стояха там дълго, четири минути, не повече.
Мъча се сега да си спомня всеки щрих на тия последни минути на тази паметна сутрин. Помня, че когато останахме сами, без дамите (с изключение на Даря Павловна, която не бе помръднала от мястото си), Николай Всеволодович обиколи всички ни и се здрависа с всички освен с Шатов, който продължаваше да седи в ъгъла, приведен надолу още повече отпреди. Степан Трофимович уж понечи да подхване с Николай Всеволодович някаква извънредно остроумна тема, но онзи побърза да тръгне към Даря Павловна. Но по пътя почти насила го спря Пьотър Степанович, отмъкна го към прозореца и бързо му зашепна нещо, изглежда, твърде важно, съдейки по израза на лицето му и по жестовете, съпровождащи шепота му. Самият Николай Всеволодович слушаше твърде лениво и разсеяно, с официалната си усмивка, а накрая дори нетърпеливо, и все като да искаше да се отдалечи. Оттегли се от прозореца тъкмо когато се върнаха и нашите дами; Варвара Петровна сложи Лиза да седне, дето си седеше, уверявайки, че трябва да почакат и да починат поне десетина минути и че сега чистият въздух едва ли ще се отрази добре на разстроените й нерви. Много, много се беше загрижила за Лиза и дори седна до нея. Освободилият се Пьотър Степанович моментално се намери до тях и поде жив и весел разговор. И ето че тъкмо в тоя момент Николай Всеволодович най-сетне стигна с бавната си походка при Даря Павловна; Даша просто цялата се разтрепера при приближаването му, бързо скочи от мястото си, смути се и цялото й лице пламна.
— Вие май приемате вече поздравления… или още не? — каза той с някакъв особен израз на лицето.
Даша му отговори нещо, но беше трудно да се чуе.
— Прощавайте за нескромността — повиши глас той, — но сигурно знаете, че бях специално известен. Знаехте ли за това?
— Да, знам, че сте били специално известен.
— Надявам се обаче, че не съм объркал нищо с моите поздравления — засмя се той — и ако Степан Трофимович…
— Какво, какви поздравления? — скочи изведнъж Пьотър Степанович, — с какво да ви поздравим, Даря Павловна? Ами мигар с онова, а? Цветът на лицето ви показва, че съм познал. Тъй де, с какво друго да поздравяваме нашите прекрасни и благородни госпожици и от кои поздравления те най-много се червят? Е, хайде, ако съм познал, приемете и моите и плащайте баса: помните ли, че в Швейцария се хванахте с мен на бас, че никога няма да се омъжите… Ах, да, по повод Швейцария — гледай какъв съм! Ами че аз, представете си, кажи-речи, затова съм дошъл, а насмалко да забравя; кажи ми ти на мене — бързо се обърна той към Степан Трофимович, — кога тръгваш за Швейцария?
— Аз… в Швейцария? — учуди се и се смути Степан Трофимович.
— Как? Мигар не заминаваш? Че нали и ти ще се жениш… ти ми писа?
— Pierre! — възкликна Степан Трофимович.
— Какво Pierre… Ако това ти харесва, аз долетях да ти заявя, че нямам нищо против, тъй като ти непременно искаше мнението ми колкото се можело по-скоро; ако ли пък (нижеше той) трябва да те „спасявам“, както пишеш и умоляваш в същото това писмо, аз пак съм на твоите услуги. Вярно ли, че се жени, Варвара Петровна? — обърна се бързо той към нея. — Надявам се, че не проявявам нескромност; самият той пише, че целият град го знаел, всички го поздравявали, тъй че за да го избегнел, излизал само нощем. Писмото е в джоба ми. Но вярвайте ми, Варвара Петровна, нищичко не разбирам от него. Едно ми кажи ти на мене, Степан Трофимович, да те поздравяваме или да те „спасяваме“? То не е за вярване, но у него след най-щастливите редове иде просто върхът на отчаянието. Първо, прошка ми иска; хайде, да приемем, че това си му е в нрава… А впрочем как да мълча: представете си само, човекът ме е виждал всичко два пъти в живота си, че и то случайно, и сега, встъпвайки в трети брак, изведнъж си въобразява, че по тоя начин нарушавал някакви родителски задължения, от хиляда версти ме моли да не му съм се сърдел и да съм му разрешал! Моля те, не се обиждай, Степан Трофимович, черта на времето, аз имам широки възгледи и не те осъждам, и да кажем, че това ти прави чест и т.н., и т.н., но все пак главното е, че не го разбирам главното. Нещо за някакви си „грехове в Швейцария“. Женя се, значи, заради грехове или заради чужди грехове, или как го беше казал там — с една дума — „грехове“. „Момичето, казва, е перла и брилянт“, е и то се знае, „той е недостоен“ — в неговия си стил; но заради някакви си там грехове или обстоятелства „съм принуден да ида под венчило и да замина за Швейцария“ и поради това „зарязвай всичко и тичай да ме спасяваш“. Разбирате ли нещо от всичко това? А впрочем… впрочем по израза на лицата забелязвам (с писмото в ръка и с най-невинна усмивка той се въртеше и се вглеждаше в лицата), че както винаги, аз май съм сгафил нещо… поради глупавата си откровеност или припряност, както казва Николай Всеволодович. Аз щото мислех, че тук са все свои, тоест твои свои, Степан Трофимович, твои свои, аз всъщност съм чужд и виждам… виждам, че всички знаят нещо, и тъкмо аз съм тоя, дето не зная нищо.
Той все продължаваше да се оглежда.
— Точно тъй ли ви е писал Степан Трофимович, че се жени заради „чужди грехове, извършени в Швейцария“, и да тичате „да го спасявате“, със същите тия изрази? — приближи се внезапно Варвара Петровна, цялата прежълтяла, с разкривено лице, с треперещи устни.
— Тоест искам да кажа, че ако не съм разбрал нещо — уж че се изплаши и още повече се разбърза Пьотър Степанович, — вината е, разбира се, негова, защото така пише. Ето го писмото. Вижте какво, Варвара Петровна, това са едни безкрайни и непрестанни писма, а през последните два-три месеца просто писмо след писмо, и да си призная, накрая понякога взех да не ги дочитам. Прощавай за глупавото признание, Степан Трофимович, но и ти ще се съгласиш, че макар да си ги адресирал до мен, си ги писал повечето за потомството, тъй че на тебе ти е все едно… Хайде, хайде, не се цупи; ние с теб сме си поне свои! Но това писмо, Варвара Петровна, това писмо го изчетох. Тия „грехове“ де — тия „чужди грехове“ — са навярно някакви наши си собствени грехове и бас държа, че са от най-невинните, но внезапно ни хрумва да направим от тях ужасна история с благороден оттенък — именно заради благородния оттенък я правим. На нас, видите ли, нещо сметките ни куцат — трябва най-сетне да се признае. Ние, видите ли, по картите си падаме… а впрочем това е вече излишно, виноват, аз много се раздрънках, но, бога ми, ви казвам, Варвара Петровна, уплаши ме този човек и аз действително се приготвих отчасти „да го спасявам“. В края на краищата и на самия мен ми е съвестно. Ами тъй де, да не би пък да съм му опрял ножа в гърлото, я! Да не би да съм някой неумолим кредитор? Пише ми тук за някаква зестра… Впрочем, жениш ли се ти най-сетне, Степан Трофимович? Нали си го имаме тоя обичай, говорим, а повечето за единия стил… Ах, Варвара Петровна, сигурен съм, на, че сега ме осъждате, и то именно заради тоя ми стил…
— Напротив, напротив, виждам, че и на вас търпението ви се е изчерпало и, разбира се, сте си имали причините за това — злобно поде Варвара Петровна.
Тя със злобна наслада бе изслушала всички „правдиви“ словоизлияния на Пьотър Степанович, който очевидно играеше роля (тогава още не знаех каква, но ролята бе очевидна и дори твърде нескопосано изиграна).
— Напротив — продължаваше тя, — аз съм ви твърде благодарна, че заговорихте; без вас тъй и нямаше да науча. За първи път от двайсет години ми се отварят очите. Николай Всеволодович, вие току-що казахте, че сте били специално известен: да не би Степан Трофимович и на вас да е писал нещо от тоя род?
— Аз получих от него едно най-невинно и… и… крайно благородно писмо…
— Вие се затруднявате, търсите думите — достатъчно! Степан Трофимович, аз очаквам от вас една изключителна услуга — обърна се тя изведнъж към него с припламващ поглед, — бъдете тъй любезен още сега да ни напуснете, а занапред не прекрачвайте прага на моя дом.
Моля да си спомните за одевешната „екзалтация“, която още не бе преминала. Вярно, виновен си беше Степан Трофимович! Но кое ме смая най-много тогава: това, че той с удивително достойнство понесе и „изобличенията“ на Петруша, когото дори не се опита да прекъсне, и „проклятието“ на Варвара Петровна. Отде се взе у него толкова кураж? Разбрах само едно, че бе безспорно и дълбоко обиден от одевешната първа среща с Петруша, именно от одевешната прегръдка. Това бе дълбоко и вече истинско страдание поне в неговите очи, за неговото сърце. В момента го измъчваше и друго, а именно собственото му убийствено съзнание, че е изподлярствал; впоследствие самият той ми го беше признал с цялата си откровеност. А истинското, безспорното страдание е способно понякога да направи солиден и устойчив дори един феноменално лекомислен човек, та макар и за известно време; нещо повече, истинското, същинското страдание кара понякога дори глупака да поумнее, също тъй, разбира се, временно; такова си му е свойството на страданието. А щом е тъй, какво можеше да стане с човек като Степан Трофимович? Цял поврат — разбира се, също само за известно време.
Той с достойнство се поклони на Варвара Петровна и не промълви нито дума (вярно, че друго и не му оставаше). И вече съвсем тръгна да си върви, но не се сдържа и отиде при Даря Павловна. Тя, види се, го е предчувствала, защото тутакси изплашено заговори, сякаш бързайки да го изпревари.
— Моля ви, Степан Трофимович, не казвайте нищо, за бога — почна тя развълнувано, припряно и с мъчителна гримаса на лицето, протягайки му бързо ръка, — бъдете сигурен, че аз все тъй ви уважавам… и все тъй ви ценя, и… вие също не мислете лошо за мен, Степан Трофимович, и аз много, много ще ценя това…
Степан Трофимович дълбоко, дълбоко се поклони.
— Твоя воля, Даря Павловна, ти знаеш, че в цялата тази работа имаш пълна свобода! Имала си и я имаш и сега, и занапред — тежко заключи Варвара Петровна.
— Ха, чак сега всичко разбирам! — удари се по челото Пьотър Степанович. — Но… но в какво положение изпадам сега аз, а? Даря Павловна, моля за извинение!… Как ме нареди ти мене с всичко това, а? — обърна се той към баща си.
— Pierre, ти би могъл да потърсиш и по-други изрази към мен, не е ли тъй, друже мой? — съвсем тихо промълви Степан Трофимович.
— Не викай, моля те — замаха Pierre с ръце, — повярвай ми, че всичко това са стари, болни нерви и викането нищо няма да помогне. Ти по-добре ми кажи друго, нима не можеше да предположиш, че аз още с идването си ще заговоря; как тъй не ме предупреди?
Степан Трофимович внимателно го изгледа:
— Pierre, ти, който толкова много знаеш за това, което става тук, мигар наистина нищичко не си знаел, не си чувал за тази работа?
— Какво-о-о? Ама че хора, а! Значи, не стига, че сме стари деца, ами на туй отгоре сме и лоши деца? Варвара Петровна, чухте ли го какво каза?
Вдигна се шум; но тук изведнъж стана такова едно нещо, което пък никой не можеше да очаква.
VIII
Преди всичко ще спомена, че през последните две-три минути Лизавета Николаевна бе обзета от нещо ново; тя бързо си шушукаше нещо с маман и с Маврикий Николаевич. Лицето й бе тревожно, но същевременно изразяваше решителност. Най-сетне тя стана от мястото си, явно бързайки да си отиде, подканяйки да побърза и маман, която Маврикий Николаевич вече вдигаше от креслото. Но, види се, не им бе съдено да си отидат, без да изгледат всичко до края.
Шатов, напълно забравен от всички в своето кьоше (недалеч от Лизавета Николаевна) и, изглежда, без и той да знае защо седи и не си отива, внезапно стана от стола и през цялата стая с бавна, но твърда крачка се запъти към Николай Всеволодович, гледайки го право в очите. Онзи още отдалеч забеляза приближаването му и се поусмихна; но когато Шатов съвсем го доближи и спря пред него, престана да се усмихва.
В тоя момент го забелязаха и останалите и млъкнаха, най-последен — Степан Трофимович; Лиза и маман се спряха насред стаята. Тъй изминаха пет секунди; изразът на дръзко недоумение на лицето на Николай Всеволодович се смени с гняв, той мръщеше вежди и внезапно…
И внезапно Шатов замахна с дългата си тежка ръка и с всичка сила го удари по страната. Николай Всеволодович силно се олюля.
Шатов го беше ударил особено, съвсем не тъй, както обикновено се удря плесница (ако можем да се изразим така), не с длан, а с цял юмрук, а юмрукът му беше голям, тежък, кокалест, с рижав мъх и лунички. Ако ударът се бе случил по носа, щеше да му строши носа. Но се бе случил по бузата, засягайки левия край на устната и горните зъби, от които тутакси рукна кръв.
Чу се май къс вик, извикала бе може би Варвара Петровна — не си го спомням, защото в същия миг всичко сякаш отново замря. Впрочем цялата сцена продължи не повече от някакви си десет секунди.
Независимо от това през тези десет секунди станаха ужасно много неща.
Отново ще напомня на читателя, че Николай Всеволодович беше от онези натури, които не знаят що е страх. На дуел той можеше хладнокръвно да стои под изстрелите на противника и самият той да се цели и да убива със зверско спокойствие. Ако някой го удареше по страната, аз мисля, той и на дуел нямаше да го вика, а тутакси, на място би убил оскърбителя; беше именно от такивата и би убил с пълно съзнание, а не защото е излязъл от кожата си. Струва ми се дори че никога не е познавал онези заслепяващи пориви на гнева, при които вече не може да се разсъждава. При безкрайната злоба, която го обземаше понякога, той все пак винаги съумяваше да се овладее, сиреч да си дава сметка, че за убийство, извършено не на дуел, непременно ще го пратят на каторга; и въпреки това все пак би убил оскърбителя без най-малко колебание.
Напоследък аз през всичкото време изучавах Николай Всеволодович и по едни особени обстоятелства сега, когато пиша това, знам за него извънредно много факти. Аз бих могъл да го сравня с господата от миналото, за които сега в нашето общество са оцелели някои легендарни спомени. Разправя се например за декабриста Л-н[17], че цял живот нарочно търсил опасността, опивал се от това усещане, превърнал го в потребност на натурата си; на младини се дуелирал просто за едното нищо; в Сибир ходел на лов за мечки само с нож, обичал да се среща в сибирските гори с избягали каторжници, които, ще кажа между впрочем, са по-страшни от мечка. Безспорно тези легендарни господа са били способни да изпитват, и може би в голяма степен, чувството на страх — иначе биха били много по-спокойни и не биха превърнали усещането за опасност в потребност за своята натура. Да побеждават у себе си страха — това, разбира се, ги е привличало. Непрекъснатото опиянение от победата и съзнанието, че никой не те е победил — това ги е увличало. Този Л-н още преди заточението се борил известно време с глада и с тежък труд изкарвал хляба си единствено защото в никакъв случай не искал да се подчини на исканията на своя богат баща, намирайки ги за несправедливи. Сиреч разбирал е борбата многостранно; не само срещу мечките и не само на дуелите е пробвал твърдостта и силата на характера си.
Но все пак оттогава са минали много години и нервозната, измъчена и раздвоила се природа на хората от наше време сега дори изобщо не допуска потребността от ония непосредствени и цялостни усещания, толкова търсени от някои необуздани господа от доброто старо време. Николай Всеволодович би се отнесъл може би към Л-н отвисоко, би го нарекъл даже вечно перещ се страхливец, див петел — разбира се, не би го заявил гласно. Той и на дуел би застрелял противника си, и срещу мечка би излязъл, ако дотрябва, и с разбойника в гората би се справил все тъй успешно и тъй безстрашно, както и Л-н, но затова пък без каквото и да било чувство за удоволствие, а единствено поради неприятната необходимост, вяло, лениво, дори с отегчение. Разбира се, по отношение на злобата излизаше, че има прогрес в сравнение с Л-н, дори в сравнение с Лермонтов. Злоба у Николай Всеволодович имаше комай повече, отколкото у тия двамата, взети заедно, но тая злоба бе студена, спокойна и разумна, ако можем да се изразим така, ще рече, най-отвратителната и най-страшната, каквато може да има. Още веднъж повтарям: и тогава го смятах, и сега го смятам (когато вече всичко е свършено) именно за човек, който, ако бе получил плесница или друга подобна обида, тутакси, незабавно, на мястото би убил противника, без да го вика на дуел.
В дадения случай обаче стана нещо друго и нещо много чудно.
Едва се беше изправил, след като тъй позорно бе залитнал и едва не падна от удара, в ушите му още не бе затихнал подлият и някак лепкав звук на юмручния удар в лицето, когато посегна и хвана Шатов с две ръце за раменете; но тутакси, в същия почти миг, дръпна ръцете си и ги скръсти отзад. Мълчеше, гледаше Шатов и побледняваше като платно. Но странно, погледът му сякаш гаснеше. След десет секунди очите му гледаха хладно и — убеден съм, че не се лъжа — спокойно. Само беше ужасно блед. Разбира се, не знам какво е било вътре в човека, аз виждах отвън. Струва ми се, че ако имаше човек, който да хване например нажежена до червено желязна пръчка и я стисне с ръка с цел да премери своята твърдост, и после в течение на десет секунди да побеждава нетърпимата болка, и накрая да я победи, този човек, мисля, би изпитал нещо подобно на онова, което бе изпитал сега, през тия десет секунди, Николай Всеволодович.
Пръв от тях сведе поглед Шатов и явно защото бе принуден да го сведе. След това той бавно се обърна и тръгна да излиза от стаята, но вече съвсем не с походката, с която се бе приближил одеве. Отиваше си тихо, с някак особено непохватно повдигнати отзад рамене, с клюмнала глава и сякаш разсъждаваше за нещо със самия себе си. Като че ли си шепнеше нещо. Стигна до вратата, без нищо да закачи или събори, а самата врата открехна съвсем малко, колкото да се промуши през нея на верев. Когато се промушваше, щръкналият на тила му кичур особено се забелязваше.
После, преди всички да се развикат, се раздаде един страшен вик. Видях, че Лизавета Николаевна хвана своята маман за рамото, а Маврикий Николаевич за ръката, два-три пъти ги дръпна, за да ги извлече навън от стаята, но изведнъж изкрещя и като подкосена падна на пода в безсъзнание. И досега сякаш още чувам как тилът й се удари в килима.
Глава пятая
Премудрый змий
I
Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресла у окна.
— Сядьте здесь, моя милая, — указала она Марье Тимофеевне место, посреди комнаты, у большого круглого стола. — Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?
— Я… я… — залепетал было Степан Трофимович…
Но явился лакей.
— Чашку кофею, сейчас, особенно и как можно скорее! Карету не откладывать.
— Mais, chère et excellente amie, dans quelle inquiétude…[1] — замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.
— Ах! по-французски, по-французски! Сейчас видно, что высший свет! — хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге.
Все мы молчали и ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый; пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно; на губах ее кривилась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлеклась совершенно: она с наслаждением и нимало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны — меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.
— Так и ты тут, Шатушка! — воскликнула она вдруг, — представь, я давно тебя вижу, да думаю: не он! Как он сюда проедет! — и весело рассмеялась.
— Вы знаете эту женищу? — тотчас обернулась к нему Варвара Петровна.
— Знаю-с, — пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть.
— Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей!
— Да что… — ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся… — сами видите.
— Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!
— Живет в том доме, где я… с братом… офицер один.
— Ну?
Шатов запнулся опять.
— Говорить не стоит… — промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости.
— Конечно, от вас нечего больше ждать! — с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все что-то знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее.
Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне.
— Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорей и согрейтесь.
— Merci, — взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею merci. Но, встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол.
— Тетя, да уж вы не сердитесь ли? — пролепетала она с какою-то легкомысленною игривостью.
— Что-о-о? — вспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. — Какая я вам тетя? Что вы подразумевали?
Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел.
— Я… я думала, так надо, — пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну, — так вас Лиза звала.
— Какая еще Лиза?
— А вот эта барышня, — указала пальчиком Марья Тимофеевна.
— Так вам она уже Лизой стала?
— Вы так сами ее давеча звали, — ободрилась несколько Марья Тимофеевна. — А во сне я точно такую же красавицу видела, — усмехнулась она как бы нечаянно.
Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась; даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней.
— Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость, — сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее давеча Варварой Петровной.
— Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте, пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.
— Chère amie… — позволил было себе опять Степан Трофимович.
— Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы… Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок, подле вас, в девичью.
Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.
— Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна?
— Оне-с не совсем здоровы-с.
— Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездорова.
В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и «расстроенная» Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.
— Ох, батюшки, насилу доплелась; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! — взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, всё, что накопилось раздражения.
— Матушка, Варвара Петровна, я к вам за дочерью!
Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:
— Здравствуй, Прасковья Ивановна, сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь, что приедешь.
II
Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и, под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покамест были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало быть, еще пуще обидны; но главное в том, что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить некоторые странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие, и именно своею неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже пять дней как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала «от Дроздихи» обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-либо считают униженною. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы, находившиеся в гостиной, не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора; мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустился на стул, услыхав взвизг Прасковьи Ивановны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от «строптивости характера», а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно, и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание.
III
— Ох, сюда! — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощию Маврикия Николаевича. — Не села б у вас, матушка, если бы не ноги! — прибавила она надрывным голосом.
Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и видимо ощущая в нем сильную боль (tic douloureux.[2])
— Что так, Прасковья Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннею приязнию пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли.
Прасковья Ивановна замахала руками.
— Уж так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь, — уловка ваша. А по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона.
— Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала; что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись.
— Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькою девочкой. Не хочу я кофею, вот!
И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофей слуге. (От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо довольная за это собой).
Варвара Петровна криво улыбнулась.
— Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась; а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как madame Lefebure тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори: с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна?
— А вы в пансионе в попа влюбились, что закон божий преподавал, — вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность, — ха-ха-ха!
Она желчно расхохоталась и раскашлялась.
— А-а, ты не забыла про попа… — ненавистно глянула на нее Варвара Петровна.
Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.
— Мне, матушка, теперь не до смеху; зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали, вот зачем я приехала!
— В мой скандал? — грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.
— Мама́, я вас тоже очень прошу быть умереннее, — проговорила вдруг Лизавета Николаевна.
— Как ты сказала? — приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки.
— Как вы могли, мама́, сказать про скандал? — вспыхнула Лиза. — Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною.
— «Историю этой несчастной»! — со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. — Да стать ли тебе мешаться в такие «истории»? Ох, матушка! Довольно нам вашего деспотизма! — бешено повернулась она к Варваре Петровне. — Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да, видно, пришла и на вас пора!
Варвара Петровна сидела выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.
— Ну, моли бога, Прасковья, что все здесь свои, — выговорила она наконец с зловещим спокойствием, — много ты сказала лишнего.
— А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные; это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали.
— Поумнела ты, что ль, в эту неделю?
— Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю.
— Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь?
— Да вот она, вся-то правда сидит! — указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну, с тою отчаянною решимостию, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, всё время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи и весело зашевелилась в креслах.
— Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли! — воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла.
— Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый; я тоже приблизился; даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла; но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна: она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом:
— Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!
— Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды! — твердо, хоть и негромко выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.
— Матушка! — продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись, — друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют; ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь!
Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом; ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: «Дарья Павловна!», так что все глаза разом обратились на вошедшую.
— Как, так это-то ваша Дарья Павловна! — воскликнула Марья Тимофеевна. — Ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица! Как же мой-то этакую прелесть крепостною девкой Дашкой зовет!
Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне; но, пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным, приковавшимся взглядом.
— Садись, Даша, — проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием, — ближе, вот так; ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?
— Я никогда ее не видала, — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила: — должно быть, это больная сестра одного господина Лебядкина.
— И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, — с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. — А что мой лакей бранится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю! — с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой.
— Понимаешь ты что-нибудь? — с гордым достоинством спросила Варвара Петровна.
— Я всё понимаю-с…
— Про деньги слышала?
— Это, верно, те самые деньги, которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейцарии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату.
Последовало молчание.
— Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?
— Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста рублей, господину Лебядкину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать, на случай, если господин Лебядкин приедет.
— Какие же деньги… пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?
— Этого уж я не знаю-с; до меня тоже доходило, что господин Лебядкин говорил про меня вслух, будто я не всё ему доставила; но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала триста рублей.
Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, — что бы она там про себя ни чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностию, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее всё время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала.
— Если, — произнесла она наконец с твердостию и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, — если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокоивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистою совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность; и сделала ее, приняв на себя сношения с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это всё надо кончить.
— Лучше всего, когда он к вам придет, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, — то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить. Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.
И она выразительно мотнула головой.
— Это надо кончить, — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну, — прошу вас, позвоните, Степан Трофимович.
Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении.
— Если… если я… — залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь, — если я тоже слышал самую отвратительную повесть или, лучше сказать, клевету, то… в совершенном негодовании… enfin, c’est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé…[3]
Он оборвал и не докончил; Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорович.
— Карету, — приказала Варвара Петровна, — а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.
— Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.
— Это невозможно, Варвара Петровна, — с беспокойством выступил вдруг всё время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич, — если позволите, это не такой человек, который может войти в общество, это… это… это невозможный человек, Варвара Петровна.
— Повременить, — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.
— c’est un homme malhonnête et je crois même que c’est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre,[4] — пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался.
— Лиза, ехать пора, — брезгливо возгласила Прасковья Ивановна и приподнялась с места. — Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча, в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерною складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.
— Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя, — остановила Варвара Петровна, всё с тем же чрезмерным спокойствием, — сделай одолжение, присядь, я намерена всё высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня; я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такою дрянью в карман, я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное, шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая «будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль», я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами и, как ты выразилась, «бомбардировали», то, конечно, первая жалею, что послужила невинною причиной. Вот и всё, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя. К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом: что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя.
Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее.
— Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы), — верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне… Бог с тобою. Я всегда благословляла святую десницу его…
Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, всё в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей.
— Я, мама́, еще не поеду, а останусь на время у тети, — проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.
— Бог ты мой, что такое! — возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала; она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух.
Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны.
— Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайною просьбой, сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда.
Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебядкина.
IV
Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. «Есть люди, которым чистое бельё даже неприлично-с», как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надеванную, он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцевитую и, наверно, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний «фрак любви», о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Всё это, то есть и фрак и белье, было припасено (как узнал я после) по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь (в извозчичьей карете) непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагаю даже, что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачнуть его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел.
Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.
— Я приехал, сударыня… — прогремел было он как в трубу.
— Сделайте мне одолжение, милостивый государь, — выпрямилась Варвара Петровна, — возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть.
Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но, однако, повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать, что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость, при случае. Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно, что самое главное страдание всех подобных господ, когда они каким-нибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Тимофеевна, вероятно найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.
— Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих? — мерно и выразительно произнесла она.
— Капитан Лебядкин, — прогремел капитан, — я приехал, сударыня… — шевельнулся было он опять.
— Позвольте! — опять остановила Варвара Петровна. — Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?
— Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении…
Он вдруг запнулся и побагровел.
— Не примите превратно, сударыня, — сбился он ужасно, — родной брат не станет марать… в таком положении — это значит не в таком положении… в смысле, пятнающем репутацию… на последних порах…
Он вдруг оборвал.
— Милостивый государь! — подняла голову Варвара Петровна.
— Вот в каком положении! — внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в средину лба. Последовало некоторое молчание.
— И давно она этим страдает? — протянула несколько Варвара Петровна.
— Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски…
— По-братски?
— То есть не по-братски, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня, и поверьте, сударыня, — зачастил он, опять побагровев, — что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностию, которую здесь замечаем. Имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебядкин горд, сударыня, и… и… я приехал отблагодарить… Вот деньги, сударыня!
Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было, что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было; но, вероятно чувствуя сам, что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание: деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и, к довершению срама, одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер.
— Двадцать рублей, сударыня, — вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом; заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но, почему-то устыдившись, махнул рукой.
— Вашим людям, сударыня, лакею, который подберет; пусть помнит Лебядкину!
— Я этого никак не могу позволить, — торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна.
— В таком случае…
Он нагнулся, поднял, побагровел и, вдруг приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги.
— Что это? — совсем уже, наконец, испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперед.
— Успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший, ей-богу, не сумасшедший! — в волнении уверял капитан на все стороны.
— Нет, милостивый государь, вы с ума сошли.
— Сударыня, это вовсе не то, что вы думаете! Я, конечно, ничтожное звено… О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, но которую назовем пока Марией Неизвестной, пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам бог! Сударыня, вы дали ей десять рублей, и она приняла, но потому, что от вас, сударыня! Слышите, сударыня! ни от кого в мире не возьмет эта Неизвестная Мария, иначе содрогнется во гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова, но от вас, сударыня, от вас всё возьмет. Но одною рукой возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей, в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом… так как и сами вы, сударыня, публиковались в «Московских ведомостях», что у вас состоит здешняя, по нашему городу, книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться…
Капитан вдруг оборвал; он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Всё это насчет комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел; буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась.
— Эта книга, — строго проговорила она, — находится всегда внизу у швейцара моего дома, там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только, почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали, что я желаю совершенно точного объяснения.
— Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе! — отвечал капитан.
— Почему же? — как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна.
— Сударыня, сударыня!…
Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз.
— Сударыня! — взревел он вдруг, — позволите ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души?
— Сделайте одолжение.
— Страдали вы, сударыня, в жизни?
— Вы просто хотите сказать, что от кого-нибудь страдали или страдаете.
— Сударыня, сударыня! — вскочил он вдруг опять, вероятно и не замечая того и ударяя себя в грудь, — здесь, в этом сердце, накипело столько, столько, что удивится сам бог, когда обнаружится на Страшном суде!
— Гм, сильно сказано.
— Сударыня, я, может быть, говорю языком раздражительным…
— Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить.
— Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?
— Предложите еще вопрос.
— Можно ли умереть единственно от благородства своей души?
— Не знаю, не задавала себе такого вопроса.
— Не знаете! Не задавали себе такого вопроса!! — прокричал он с патетическою иронией. — А коли так, коли так:
Молчи, безнадежное сердце! —
и он неистово стукнул себя в грудь.
Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей — совершенное бессилие сдержать в себе свои желания; напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся. Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робко, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко, шибко, так что язык его иногда подвертывался, и, не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв; тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем, это только уже предположение. Существовала же, стало быть, причина, по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решилась выслушивать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха, правда не совсем, кажется, понимая, в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но напротив, потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и, не отрываясь, смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе; но что страннее всего, Марья Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правою рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною.
— Всё это вздорные аллегории, — рассердилась наконец Варвара Петровна, — вы не ответили на мой вопрос: «Почему?». Я настоятельно жду ответа.
— Не ответил «почему?». Ждете ответа на «почему»? — переговорил капитан подмигивая. — Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу: «Почему?» — и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет, сударыня?
— Это всё вздор и не то! — гневалась и теряла терпение Варвара Петровна, — это аллегории; кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью.
— Сударыня, — не слушал капитан, — я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, — почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!
— Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?
— Я могу вам прочесть пиесу «Таракан», сударыня!
— Что-о-о?
— Сударыня, я еще не помешан! Я буду помешан, буду, наверно, но я еще не помешан! Сударыня, один мой приятель — бла-го-роднейшее лицо — написал одну басню Крылова, под названием «Таракан», — могу я прочесть ее?
— Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?
— Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение! Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем саду, для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня: «Почему?».Ответ на дне этой басни, огненными литерами!
— Прочтите вашу басню.
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
— Господи, что такое? — воскликнула Варвара Петровна.
— То есть когда летом, — заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, — когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите… (Он всё махал руками).
Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон очень наш стакан», —
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик…
Тут у меня еще не докончено, но всё равно, словами! — трещал капитан. — Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию, и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! Вот ответ на ваш вопрос: «Почему?» — вскричал он торжествуя: — «Та-ра-кан не ропщет!». Что же касается до Никифора, то он изображает природу, — прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.
Варвара Петровна рассердилась ужасно.
— А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?
— Клевета! — взревел Лебядкин, трагически подняв правую руку.
— Нет, не клевета.
— Сударыня, есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится Лебядкин, сударыня!
Он точно ослеп; он был во вдохновении; он чувствовал свою значительность; ему наверно что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть.
— Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович, — попросила Варвара Петровна.
— Лебядкин хитер, сударыня! — подмигнул он со скверною улыбкой, — хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей! И это преддверие — старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, — сударыня, тут и случается, что он отправит письмо в стихах, ве-ли-ко-лепнейшее, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост! Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебядкин мог проговорить насчет и благородной девицы, в виде благородного негодования возмущенной обидами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитер Лебядкин, сударыня! И напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца: не проговорится Лебядкин, и на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз — Хитрость Лебядкина! Но довольно, о, довольно! Сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет! Заметьте же, заметьте наконец, что не ропщет, и познайте великий дух!
В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавший на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии.
— Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с, — произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны.
Я особенно припоминаю ее в то мгновение: сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычной решимости. Да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своею неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящею минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь.
И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты, раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную — совсем не Николай Всеволодович, а совершенно не знакомый никому молодой человек.
V
Позволю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо.
Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но, однако ж, совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и, однако же, все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.
Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И, однако же, он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.
Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, ничто не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько.
Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком.
Ну вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную, и, право, мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы и так и вошел говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной.
— …Представьте же, Варвара Петровна, — сыпал он как бисером, — я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа; он полтора часа как приехал; мы сошлись у Кириллова; он отправился, полчаса тому, прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа…
— Да кто? Кто велел вам сюда приходить? — допрашивала Варвара Петровна.
— Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Но багаж же его по крайней мере должен давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а впрочем, наверно он сам сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз ответствует некоторым его ожиданиям и, сколько я по крайней мере могу судить, его некоторым расчетам. — Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. — Ах, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу, очень рад пожать вашу руку, — быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы, — и, сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего «профессора» и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как, однако ж, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат родины?…. как-с? примочки? это очень, должно быть, полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна (быстро повернулся он опять), что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить… Я уведомлял сюда моего старика, но он, по своему обыкновению, кажется…
— Петруша! — вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения; он сплеснул руками и бросился к сыну. — Pierre, mon enfant,[5] а ведь я не узнал тебя! — сжал он его в объятиях, и слезы покатились из глаз его.
— Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя, — торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий.
— Я всегда, всегда был виноват пред тобой!
— Ну и довольно; об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалишь. Ну будь же немного потрезвее, прошу тебя.
— Но ведь я не видал тебя десять лет!
— Тем менее причин к излияниям…
— Mon enfant!
— Ну верю, верю, что любишь, убери свои руки. Ведь ты мешаешь другим… Ах, вот и Николай Всеволодович, да не шали же, прошу тебя, наконец!
Николай Всеволодович действительно был уже в комнате; он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание.
Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я нимало не забыл его; но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто раз прежде встречались. По-видимому, он был всё тот же, как и четыре года назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно «походило на маску», как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же, — теперь же, не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел? Или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?
— Николай Всеволодович! — вскричала, вся выпрямившись и не сходя с кресел, Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом, — остановись на одну минуту!
Но чтоб объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, — вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, — я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать даже хозяйственного, такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, — всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорилась Прасковье Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма; а в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну.
— Николай Всеволодович, — повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, — прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, — вот она, вон там, смотрите на нее! — правда ли, что она… законная жена ваша?
Я слишком помню это мгновение; он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности.
Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и, по-прежнему не спеша, направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты, — восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то и другое, и испуг и восторг; но помню, что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось, что она сейчас упадет в обморок.
— Вам нельзя быть здесь, — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полушепотом, задыхаясь, пролепетала ему:
— А мне можно… сейчас… стать пред вами на колени?
— Нет, этого никак нельзя, — великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностию прибавил:
— Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но всё же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдемте; я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом.
Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову.
— Пойдемте, — сказала она, вздохнув и подавая ему
Но тут с нею случилось маленькое несчастие. Должно быть она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу, — словом, она упала всем боком на кресло и, не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием, осторожно повел к дверям. Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада.
Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении; муху бы можно услышать; но только что они вышли, все вдруг заговорили.
VI
Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это всё происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него. Даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович; он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну, с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, — одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: «Слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил?». Но та уж и отвечать не могла, а только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота: она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверно, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге, с самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович; но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти.
— Это необходимо, необходимо, — сыпал он своим бисером Варваре Петровне, всё продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, с жадностию его слушала; он-таки добился того и завладел ее вниманием.
— Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать, и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и, наконец, всё же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же, радикальным объяснением, несмотря на то что дело плевое; я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь»…
— Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло… это недоумение? — спросила Варвара Петровна.
— Свидетелем и участником, — поспешно подтвердил Петр Степанович.
— Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича, в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ни-че-го не скрывает… и если вы так притом уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие…
— Непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убежден, что он сам бы меня просил.
Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений.
— Вас слушают, — сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.
— Вещь короткая; даже, если хотите, по-настоящему это и не анекдот, — посыпался бисер. — Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому, в Петербурге, Николай Всеволодович узнал этого господина, — вот этого самого господина Лебядкина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна. Я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства (видите, я отлично вас помню). И мне и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом; это, должно быть (пояснил он вдруг), какой-нибудь бывший характер, burlesque,[6] над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую, — другим словом не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебядкина этого была сестра, — вот эта самая, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил под арками Гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет — пропивал. Сестрица же кормилась как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший; я миную картину этой угловой жизни, — жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна; а что касается до «чудачества», то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Mademoiselle Лебядкина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо; но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь. Есть основание предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленые карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он (не спрашивая причины) схватил одного чиновника за шиворот и спустил изо второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было; вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам; когда же всё кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту: вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к mademoiselle Лебядкиной с неожиданным уважением. Кириллов, тут бывший (чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек; вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь), ну так вот, этот Кириллов, который, по обыкновению, всё молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же, вы думаете, он ему ответил: «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею; разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше». И, знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем в эти два-три месяца он, кроме «здравствуйте» да «прощайте», в сущности, не проговорил с ней ни слова. Я, тут бывший, наверно помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее «похитить» единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий или что-то в этом роде. Много тут было смеху! Кончилось тем, что, когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, всё это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека, — пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. «Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором и побоями — и вдобавок зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, — и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет!». Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во всё время выговорил! Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну пусть, наконец, чудачество — но ведь более-то уж ничего нельзя сказать; а между тем теперь вот из этого сделали историю… Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит.
Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебядкину, но Варвара Петровна остановила его; она была в сильнейшей экзальтации.
— Вы кончили? — спросила она.
— Нет еще; для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина… Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна.
— Довольно, после, остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!
— И заметьте, Варвара Петровна, — встрепенулся Петр Степанович, — ну мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это всё давеча, в ответ на ваш вопрос, — может быть, слишком уж категорический?
— О да, слишком!
— И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному!
— Да, да… Но в одном вы ошиблись и, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться.
— Неужели? В чем это?
— Видите… А впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович.
— О, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас.
Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой, и лицом к господину Лебядкину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз.
— Вы ошибаетесь в том, что называете это «чудачеством»…
— О, если только это…
— Нет, нет, нет, подождите, — остановила Варвара Петровна, очевидно приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович, лишь только заметил это, весь обратился во внимание.
— Нет, это было нечто высшее чудачества и, уверяю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той «насмешливости», о которой вы так метко упомянули, — одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович и что было бы совершенно верно, если б он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере по моему взгляду.
— Et vous avez raison,[7] — с чувством и веско отозвался Степан Трофимович.
— Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом.
— Chère, chère… — Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.
И если бы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже Варвара Петровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио, — другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, — то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии», который всю жизнь терзал его. (О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович). Но у Nicolas никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать, но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Nicolas, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта «насмешливость» жизни (удивительно меткое выражение ваше!), эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами!
— Гм, да, положим.
— И вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все! О люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, «как маркизу» (этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Nicolas!). Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда; если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоисступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович, и как жаль, что вы… то есть не то, что вы не женщина, а по крайней мере на этот раз, чтобы понять!
— То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии: чем хуже человеку жить или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю, а если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то… я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.
— Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме (для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять), неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которою Nicolas вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею». Высокий, святой ответ!
— Sublime,[8] — пробормотал Степан Трофимович.
— И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете; богата я, а не он, а он у меня тогда почти вовсе не брал.
— Я понимаю, понимаю всё это, Варвара Петровна, — несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.
— О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов… И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более что вам уже так обязана, то вы, может быть, поймете тогда…
— О, поверьте, я желаю, с моей стороны, — отрывисто пробормотал Петр Степанович.
— Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что, — может быть, именно за то, что он недостоин того… О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!
Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд; но я вовремя увернулся.
— …И еще недавно, недавно — о, как я виновата пред Nicolas!… Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки, и друзья; друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то, вы не поверите этому, у меня недостало, наконец, презрения, в ответ на всю эту злость… Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия!
— Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, — оживился вдруг Петр Степанович, — и я вам их разыщу, будьте покойны.
— Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги! — они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну — а ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, — прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии.
— Полноте, матушка, — пробормотала та нехотя, — а по-моему, это бы всё надо кончить; слишком говорено… — и она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича.
— А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую всё и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, — вдруг воскликнула Варвара Петровна, — это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту!
— И это даже будет очень хорошо-с в некотором смысле, — совершенно оживился Петр Степанович. — Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что, когда уехал тогда Николай Всеволодович (я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна), этот господин, вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка; и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром — понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебядкин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая, в случае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки, судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань, — можете себе представить? Господин Лебядкин, правда ли всё то, что я здесь сейчас говорил?
Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел.
— Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили, — проговорил он, точно оборвал.
— Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос: правда ли всё то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.
— Я… вы сами знаете, Петр Степанович… — пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе.
Колебания господина Лебядкина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу; лицо его передернулось какой-то злобной судорогой.
— Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? — тонко поглядел он на капитана. — В таком случае сделайте одолжение, вас ждут.
— Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять.
— Нет, я этого не знаю, в первый раз даже слышу; почему так вы не можете заявлять?
Капитан молчал, опустив глаза в землю.
— Позвольте мне уйти, Петр Степанович, — проговорил он решительно.
— Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос: правда всё, что я говорил?
— Правда-с, — глухо проговорил Лебядкин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.
— Всё правда?
— Всё правда-с.
— Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это; протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие.
— Нет, ничего не нахожу.
— Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?
— Это… это, тут было больше вино, Петр Степанович. (Он поднял вдруг голову). Петр Степанович! Если фамильная честь и не заслуженный сердцем позор возопиют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек? — взревел он, вдруг забывшись по-давешнему.
— А вы теперь трезвы, господин Лебядкин? — пронзительно поглядел на него Петр Степанович.
— Я… трезв.
— Что это такое значит фамильная честь и не заслуженный сердцем позор?
— Это я про никого, я никого не хотел. Я про себя… — провалился опять капитан.
— Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение? Вы очень раздражительны, господин Лебядкин. Но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в настоящем виде.
Лебядкин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.
— Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться!
— Гм. И это я вас разбудил?
— Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?
— Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым…
Но та замахала руками.
Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем; тот посторонился; капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.
VII
Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное; но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен.
— Простишь ли ты меня, Nicolas? — не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу.
Но Nicolas решительно рассмеялся.
— Так и есть! — воскликнул он добродушно и шутливо. — Вижу, что вам уже всё известно. А я, как вышел отсюда, и задумался в карете: «По крайней мере надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит?». Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила.
Говоря, он бегло осматривался кругом.
— Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, — восторженно подхватила Варвара Петровна, — одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного…
— Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? — смеялся Nicolas. — Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость (тут он обменялся с ним мгновенным взглядом). Надобно вам узнать, maman, что Петр Степанович — всеобщий примиритель; это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит, когда рассказывает; в голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать и что истина ему дороже успеха… разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. (Говоря это, он всё осматривался). Таким образом, вы видите ясно, maman, что не вам у меня прощения просить и что если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, и, значит, в конце концов я все-таки помешанный, — надо же поддержать свою здешнюю репутацию…
Тут он нежно обнял мать.
— Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем, — прибавил он, и какая-то сухая, твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку; но экзальтация ее не проходила, даже напротив.
— Я никак не ждала тебя раньше как через месяц, Nicolas!
— Я, разумеется, вам всё объясню, maman, а теперь…
И он направился к Прасковье Ивановне.
Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты: с самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться, — сначала тихо, порывисто, но смех разрастался всё более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть; но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом; можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо старалась скрепиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.
— Вы, пожалуйста, извините меня, — ответила она скороговоркой, — вы… вы, конечно, видели Маврикия Николаевича… Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!
И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно.
— Вы… давно приехали? — пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.
— Часа два с лишком, — ответил Nicolas, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.
— А где будете жить?
— Здесь.
Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль.
— Где ж ты был, Nicolas, до сих пор, все эти два часа с лишком? — подошла она. — Поезд приходит в десять часов.
— Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову. А Петра Степановича я встретил в Матвееве (за три станции), в одном вагоне и доехали.
— Я с рассвета в Матвееве ждал, — подхватил Петр Степанович, — у нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали.
— Ноги сломали! — вскричала Лиза. — Мама, мама, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево, вот бы тоже ноги сломали!
— Господи помилуй! — перекрестилась Прасковья Ивановна.
— Мама́, мама́, милая ма, вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю; со мной это так может случиться, сами же говорите, что я каждый день скачу верхом сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую? — захохотала она опять. — Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас, смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю… Ну будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье.
— Что уж за счастье с одною ногой? — серьезно нахмурился Маврикий Николаевич.
— Зато вы будете водить, один вы, никому больше!
— Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна, — еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич.
— Боже, да ведь он хотел сказать каламбур! — почти в ужасе воскликнула Лиза. — Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь! Но только до какой же степени вы эгоист! Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете; напротив: вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее! Одно непоправимо — вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану премаленькая, как же вы меня поведете под руку, мы будем не пара!
И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы.
— Истерика! — шепнул мне Петр Степанович. — Поскорее бы воды стакан.
Он угадал; через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мама́, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же, опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала наконец и мама́. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там недолго, минуты четыре, не более…
Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню, что, когда мы остались одни, без дам (кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места), Николай Всеволодович обошел нас и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своем углу и еще больше, чем давеча, наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, по-видимому об очень важном, судя по выражению лица и по жестам, сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальною усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и всё как бы порывался уйти. Он ушел от окна, именно когда воротились наши дамы; Лизу Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя, что им минут хоть десять надо непременно повременить и отдохнуть и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень уж она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел наконец к Дарье Павловне неспешною походкой своей; Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во всё лицо.
— Вас, кажется, можно поздравить… или еще нет? — проговорил он с какой-то особенною складкой в лице.
Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.
— Простите за нескромность, — возвысил он голос, — но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?
— Да, я знаю, что вы были нарочно извещены.
— Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлением, — засмеялся он, — и если Степан Трофимович…
— С чем, с чем поздравить? — подскочил вдруг Петр Степанович, — с чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует, что я угадал. В самом деле, с чем же и поздравлять наших прекрасных и благонравных девиц и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и заплатите пари: помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж… Ах да, по поводу Швейцарии — что ж это я? Представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл: скажи ты мне, — быстро повернулся он к Степану Трофимовичу, — ты-то когда же в Швейцарию?
— Я… в Швейцарию? — удивился и смутился Степан Трофимович.
— Как? разве не едешь? Да ведь ты тоже женишься… ты писал?
— Pierre! — воскликнул Степан Трофимович.
— Да что Pierre… Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе, что я вовсе не против, так как ты непременно желал моего мнения как можно скорее; если же (сыпал он) тебя надо «спасать», как ты тут же пишешь и умоляешь, в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. Правда, что он женится, Варвара Петровна? — быстро повернулся он к ней. — Надеюсь, что я не нескромничаю; сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтоб избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю! Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или «спасать»? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Во-первых, просит у меня прощения; ну, положим, это в их нравах… А впрочем, нельзя не сказать: вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за тысячу верст, чтоб я не сердился и разрешил ему! Ты, пожалуйста, не обижайся, Степан Трофимович, черта времени, я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь и т. д., и т. д., но опять-таки главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то «грехах в Швейцарии». Женюсь, дескать, по грехам, или из-за чужих грехов, или как у него там, — одним словом, «грехи». «Девушка, говорит, перл и алмаз», ну и, разумеется, «он недостоин» — их слог; но из-за каких-то там грехов или обстоятельств «принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию», а потому «бросай всё и лети спасать». Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем… а впрочем, я по выражению лиц замечаю (повертывался он с письмом в руках, с невинною улыбкой всматриваясь в лица), что, по моему обыкновению, я, кажется, в чем-то дал маху… по глупой моей откровенности или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал, что мы тут свои, то есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то, в сущности, чужой, и вижу… и вижу, что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю.
Он всё продолжал осматриваться.
— Степан Трофимович так и написал вам, что женится на «чужих грехах, совершенных в Швейцарии», и чтобы вы летели «спасать его», этими самыми выражениями? — подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами.
— То есть, видите ли-с, если тут чего-нибудь я не понял, — как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович, — то виноват, разумеется, он, что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и беспрерывные, а в последние два-три месяца просто письмо за письмом, и, признаюсь, я, наконец, иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и всё равно… Ну, ну, не обижайся; мы-то с тобой все-таки свои! Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти «грехи»-с — эти «чужие грехи» — это, наверно, какие-нибудь наши собственные грешки и, об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком — именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает — надо же, наконец, сознаться. Мы, знаете, в карточки очень повадливы… а впрочем, это лишнее, это совсем уже лишнее, виноват, я слишком болтлив, но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал, и я действительно приготовился отчасти «спасать» его. Мне, наконец, и самому совестно. Что я, с ножом к горлу, что ли, лезу к нему? Кредитор неумолимый я, что ли? Он что-то пишет тут о приданом… А впрочем, уж женишься ли ты, полно, Степан Трофимович? Ведь и это станется, ведь мы наговорим, наговорим, а более для слога… Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен, что вы, пожалуй, осуждаете меня теперь, и именно тоже за слог-с…
— Напротив, напротив, я вижу, что вы выведены из терпения, и, уж конечно, имели на то причины, — злобно подхватила Варвара Петровна.
Она со злобным наслаждением выслушала все «правдивые» словоизвержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль (какую — не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовато сыгранная).
— Напротив, — продолжала она, — я вам слишком благодарна, что вы заговорили; без вас я бы так и не узнала. В первый раз в двадцать лет я раскрываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены: уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?
— Я получил от него невиннейшее и… и… очень благородное письмо…
— Вы затрудняетесь, ищете слов — довольно! Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения, — вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами, — сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома.
Прошу припомнить недавнюю «экзальтацию», еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович! Но вот что решительно изумило меня тогда: то, что он с удивительным достоинством выстоял и под «обличениями» Петруши, не думая прерывать их, и под «проклятием» Варвары Петровны. Откудова взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он несомненно и глубоко оскорблен был давешнею первою встречей с Петрушей, именно давешними объятиями. Это было глубокое и настоящее уже горе, по крайней мере на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том, что он сподличал; в этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью. А ведь настоящее, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время; это уж свойство такое горя. А если так, то что же могло произойти с таким человеком, как Степан Трофимович? Целый переворот — конечно, тоже на время.
Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова (правда, ему ничего и не оставалось более). Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, как бы спеша предупредить его:
— Пожалуйста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите, — начала она горячею скороговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку, — будьте уверены, что я вас всё так же уважаю… и всё так же ценю и… думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить…
Степан Трофимович низко, низко ей поклонился.
— Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь, что во всем этом деле твоя полная воля! Была и есть, и теперь и впредь, — веско заключила Варвара Петровна.
— Ба, да и я теперь всё понимаю! — ударил себя по лбу Петр Степанович. — Но… но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуйста, извините меня!… Что ты наделал со мной после этого, а? — обратился он к отцу.
— Pierre, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? — совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович.
— Не кричи, пожалуйста, замахал Pierre руками, — поверь, что всё это старые, больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь ты мог бы предположить, что я с первого шага заговорю: как же было не предуведомить.
Степан Трофимович проницательно посмотрел на него:
— Pierre, ты, который так много знаешь из того, что здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего не знал, ничего не слыхал?
— Что-о-о? Вот люди! Так мы мало того, что старые дети, мы еще злые дети? Варвара Петровна, вы слышали, что́ он говорит?
Поднялся шум; но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать.
VIII
Прежде всего упомяну, что в последние две-три минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение; она быстро шепталась о чем-то с мама и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо торопясь уехать и торопя мама́, которую начал приподымать с кресел Маврикий Николаевич. Но, видно, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца.
Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу (неподалеку от Лизаветы Николаевны) и, по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату, неспешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся; но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться.
Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, позже всех Петр Степанович; Лиза и мама остановились посреди комнаты. Так прошло секунд пять; выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом, он нахмурил брови, и вдруг…
И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяжелою рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте.
Шатов и ударил-то по-особенному, вовсе не так, как обыкновенно принято давать пощечины (если только можно так выразиться), не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь.
Кажется, раздался мгновенный крик, может быть, вскрикнула Варвара Петровна — этого не припомню, потому что всё тотчас же опять как бы замерло. Впрочем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь десяти секунд.
Тем не менее в эти десять секунд произошло ужасно много.
Напомню опять читателю, что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам, которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то, как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал, а тут же, тотчас же убил бы обидчика; он именно был из таких, и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже, что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу; тем не менее он все-таки убил бы обидчика, и без малейшего колебания.
Николая Всеволодовича я изучал всё последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я, пожалуй, сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Рассказывали, например, про декабриста Л—на, что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы; в молодости выходил на дуэль ни за что; в Сибири с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет, что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже, может быть, в сильной степени, чувство страха, — иначе были бы гораздо спокойнее и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость — вот что, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание, что нет над тобой победителя — вот что их увлекало. Этот Л—н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера.
Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени. Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л—ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком, — правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л—н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, и единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л—на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть. Еще раз повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже всё кончено) именно таким человеком, который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль.
И однако же, в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.
Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста, от полученной пощечины, и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и — я убежден, что не лгу, — спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную докрасна железную полосу и зажал в руке, с целию измерить свою твердость, и затем, в продолжение десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то, что испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович.
Первый из них опустил глаза Шатов и, видимо, потому, что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не тою походкой, которою подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется, он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опрокинув, дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен.
Затем, прежде всех криков, раздался один страшный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна схватила было свою мама́ за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто еще слышу, как стукнулась она о ковер затылком.