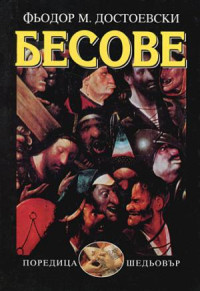Метаданни
Данни
- Година
- 1870–1871 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 6 (× 1 глас)
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)
- Превод от руски
- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,8 (× 48 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- automation (2011 г.)
- Допълнителна корекция
- NomaD (2011 г.)
Издание:
Фьодор Достоевски. Бесове
Превод от руски: Венцел Райчев
Редактор: Иван Гранитски
Художник: Петър Добрев
Коректор: Валерия Симеонова
На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош
Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5
Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.
Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“
„Абагар“ АД — Велико Търново
ISBN: 954-9559-04-1
История
- — Добавяне
Глава третья
Чужие грехи
I
Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться.
Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и всё сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что всё уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело.
Прошла неделя, а он всё еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему со временем знать, когда к ней можно будет прийти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это «одно только баловство». Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.
И, однако, все эти грубости и неопределенности, всё это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе.
Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел всё насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча — и, признаюсь, от скуки быть конфидентом — я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй, раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным.
— О, такова ли она была тогда! — проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. — Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили… Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь всё переменилось! Она говорит, что всё это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее… Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и всё сердится…
— За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? — возразил я ему.
Он тонко посмотрел на меня.
— Cher ami, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее, чем теперь, когда я согласился.
Этим словечком своим он остался доволен, и мы распили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее, чем когда-либо.
Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но, кроме того, он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, — когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, — но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.
Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветовал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему «старику» (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр., и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и всё откладывал, — а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я всё это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а, напротив, сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось, что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши «с новыми разговорами», об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях и как это ко всем пристало, и пр., и пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать, и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, — тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: «Знает Липутин или нет?». Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем.
— Вот верьте или нет, — заключил он под конец неожиданно, — а я убежден, что ему не только уже известно всё со всеми подробностями о нашем положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!…
Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.
II
Однажды поутру, — то есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом, — часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.
Я встретил Кармазинова, «великого писателя», как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он всё писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.
Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые, по обыкновению, при жизни их чуть не за гениев, — не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, — забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, — по крайней мере за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить.
С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию, и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам всё это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли, как это интересно?». Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.
Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь, с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.
Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня:
— Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу?
— На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, — вскричал я в необыкновенном волнении. — Всё прямо по этой улице и потом второй поворот налево.
— Очень вам благодарен.
Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом всё это заметил и, конечно, тотчас же всё узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю, для чего я поворотил за ним назад; не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.
— А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? — прокричал он мне опять.
Скверный крик; скверный голос!
— Извозчики? извозчики всего ближе отсюда… у собора стоят, там всегда стоит, — и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною всё с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду.
Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или, еще лучше, ридикюльчик, вроде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать.
Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства всё, что ему можно было извлечь.
— Не беспокойтесь, я сам, — очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было всё равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным; но, подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.
III
Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностию набросился на меня, только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.
— Не говорите мне, не произносите! — воскликнул он чуть не в бешенстве, — вот, вот смотрите, читайте! читайте!
Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове, и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно, была и от четвертого дня, а может быть, и от пятого):
«Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне, прошу, ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.
Вчерашняя:
«Если он решится наконец сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему.
Сегодняшняя, последняя:
«Я убеждена, что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы: давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером.
P. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет».
Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен, и даже руки его дрожали.
— Я знать не хочу ее волнений! — исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. — Je m’en fiche![1] Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под «l’homme qui rit».[2] Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m’en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke![3] Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. Vous me seconderez, n’est ce pas, comme ami et témoin.[4] Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда… тогда я, может быть, удивлю всё поколение великодушием!… Подлец я или нет, милостивый государь? — заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.
Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Всё время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.
— Неужели вы думаете, — начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, — неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, — нищенскую коробку мою! — и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?
Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о нет! Но… я потом объяснюсь.
Он даже побледнел.
— Может быть, вам скучно со мной, Г—в (это моя фамилия), и вы бы желали… не приходить ко мне вовсе? — проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома».
Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом.
— Это Липутин, и я пропал! — прошептал он, схватив меня за руку.
В ту же минуту в комнату вошел Липутин.
IV
Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я всё приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать.
Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича он тотчас же и громко воскликнул:
— Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное, сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали.
— О поручении вы прибавили, — резко заметил гость, — поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в X — ской губернии, десять дней пред нами.
Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но всё еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.
— Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий.
— Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я… — Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и — покраснел.
Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на средину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.
— Я… давно уже не видал Петрушу… Вы за границей встретились? — пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.
— И здесь и за границей.
— Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, — подхватил Липутин, — ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича.
Инженер сидел, как будто нахохлившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.
— Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.
— Знаете и Николая Всеволодовича? — осведомился Степан Трофимович.
— Знаю и этого.
— Я… я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и… так мало нахожу себя вправе называться отцом… c’est le mot;[5] я… как же вы его оставили?
— Да так и оставил… он сам приедет, — опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно, он сердился.
— Приедет! Наконец-то я… видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! — завяз на этой фразе Степан Трофимович. — Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым… о, пред которым я так виноват! То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я… одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre.[6] Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и… боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть… je m’en souviens. Enfin,[7] чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи… c’était comme un petit idiot.[8] Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я… вы меня застали…
— Вы серьезно, что он подушку крестил? — с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.
— Да, крестил…
— Нет, я так; продолжайте.
Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина.
— Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь… не в состоянии… Позвольте, однако, узнать, где квартируете?
— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.
— Ах, это там же, где Шатов живет, — заметил я невольно.
— Именно, в том же самом доме, — воскликнул Липутин, — только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.
— Comment![9] Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de ce pauvre ami[10] и эту женщину? — воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. — Вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только…
— Какой вздор! — отрезал инженер, весь вспыхнув. — Как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко… Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?
Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.
— Извините меня, — внушительно заметил Степан Трофимович, — я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим…
— Никакого тут деликатнейшего дела нет, и даже это стыдно, а я не вам кричал, что «вздор», а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю… совсем не знаю!
— Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami,[11] и всегда интересовался… Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме — иначе назвать не хочу — какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок…
— Я тоже совсем не знаю русского народа и… вовсе нет времени изучать! — отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.
— Они изучают, изучают, — подхватил Липутин, — они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.
Инженер страшно взволновался.
— Это вы вовсе не имеете права, — гневно забормотал он, — я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права…
Липутин видимо наслаждался.
— Виноват-с, может быть и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.
Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.
— Всё это глупо, Липутин, — проговорил наконец господин Кириллов с некоторым достоинством. — Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю чтобы говорить… Если есть убеждения, то для меня ясно… а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать…
— И, может быть, прекрасно делаете, — не утерпел Степан Трофимович.
— Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, — продолжал гость горячею скороговоркой, — я четыре года видел мало людей… Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, — заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, — то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле…
На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.
— Господа, мне очень жаль, — с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, — но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.
— Ах, это чтоб уходить, — спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, — это хорошо, что сказали, а то я забывчив.
Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.
— Жаль, что вы нездоровы, а я пришел.
— Желаю вам всякого у нас успеха, — ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. — Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и — забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera.[12] В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!
— Как? Как это вы сказали… ах черт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я всё дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «я пропал», услыхав его.
V
Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.
— Это всё оттого они так угрюмы сегодня, — ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, налету, — оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.
— Сестру? Больную? Нагайкой? — так и вскрикнул Степан Трофимович, — точно его самого вдруг схлестнули нагайкой. — Какую сестру? Какой Лебядкин?
Давешний испуг воротился в одно мгновение.
— Лебядкин? А, это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл…
— Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой… вы говорите: Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин…
— Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?
— Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?
— А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.
— Да ведь это негодяй!
— Точно у нас и не может быть негодяя? — осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.
— Ах, боже мой, я совсем не про то… хотя, впрочем, о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?… Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!
— Да всё это такие пустяки-с… то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит — а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее «в порядок приводит» нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.
— Это всё правда? — обратился Степан Трофимович к инженеру.
— Вы очень болтаете, Липутин, — пробормотал тот гневно.
— Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! — не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович.
Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.
— Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились, — прибавил Липутин.
— Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? — мигом повернулся опять Алексей Нилыч.
— Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с, я не про свою говорю.
— Как это глупо… и совсем не нужно… Лебядкин глуп и совершенно пустой — и для действия бесполезный и… совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.
— Ах, как жаль! — воскликнул Липутин с ясною улыбкой. — А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверно уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся… До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.
Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.
— Да как же-с? — начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. — Вдруг призвали меня и спрашивают «конфиденциально», как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?
— Вы с ума сошли! — пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя: — Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и… еще что-нибудь хуже!
В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.
— Помилуйте, Степан Трофимович! — бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, — помилуйте…
— Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто… и без малейших отговорок!
— Знал бы только, что это вас так фраппирует, так я бы совсем и не начал-с… А я-то ведь думал, что вам уже всё известно от самой Варвары Петровны!
— Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!
— Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною… бегать. Нескладно выйдет-с.
Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.
— Да что же начинать… так сконфузили…
VI
— Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят, дескать, побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную; подождал с минутку — вышли; посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь; сами знаете, как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов, по их всегдашней манере: «Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока всё объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже, что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно, как вы… (тут замялись немного) — как вы находили тогда Николая Всеволодовича… Как вы смотрели на него вообще… какое мнение о нем могли составить и… теперь имеете?…».
Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку, и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:
«Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете, конечно, и то, что с вами говорит мать… Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастия и многие перевороты. Всё это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостию высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, наклонность к некоторому особому воззрению (всё это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяснить дело. Высокого ума дама!). По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит, способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас, наконец (так и было выговорено: умоляю), сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности». Ну-с, каково-с!
— Вы… вы так фраппировали меня… — пролепетал Степан Трофимович, — что я вам не верю…
— Нет, заметьте, заметьте, — подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича, — каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку, как я, да еще снисходят до того, что сами просят секрета. Это что же-с? Уж не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?
— Я не знаю… известий никаких… я несколько дней не видался, но… но замечу вам… — лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями, — но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех…
— Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог, если я… А коли здесь… так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?
— Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!
— Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более, так сказать, психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что, дескать, тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы в течение лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы, так сказать, помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумались и сморщились вот точно так, как теперь: «Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное». Заметьте при этом, что если уж Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что же на самом-то деле может оказаться, а?
— Правда это? — обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.
— Я желал бы не говорить об этом, — отвечал Алексей Нилыч, вдруг подымая голову и сверкая глазами, — я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить и… и всё это похоже на сплетню.
Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.
— Сплетник! Да уж не шпион ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего уж, кажется-с, капитан Лебядкин, ведь уж, кажется, глуп как… то есть стыдно только сказать как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется пред его остроумием: «Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий» (собственные слова). А я ему (всё под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что, говорю, капитан, как вы полагаете с своей стороны, помешан ваш премудрый змий или нет? Так, верите ли, точно я его вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: «Да, говорит… да, говорит, только это, говорит, не может повлиять…»; на что повлиять — не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался, что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: «Да, говорит, пожалуй, и помешан, только это не может повлиять…» — и опять не досказал, на что повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: «Да, говорят, помешан; очень умен, но, может быть, и помешан».
Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.
— А почему Лебядкин знает?
— А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и — не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.
— Я ничего не знаю, или мало, — с тем же раздражением отвечал инженер, — вы Лебядкина пьяным поите, чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели, чтоб узнать и чтоб я сказал. Стало быть, вы шпион!
— Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что они для меня значат, не знаю, как для вас. Напротив, это он деньгами сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может, и разузнаю-с… секретики все ваши-с, — злобно отгрызнулся Липутин.
Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и, главное, не церемонились. Мне подумалось, что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор через третье лицо, любимый его маневр.
— Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, — раздражительно продолжал он, — но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился, в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.
— Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас, что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.
— Так меня-то за что же-с? Я первый кричу, что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. «Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться». Лебядкин тоже в одно слово вчера: «От характера его, говорит, пострадал». Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать, что сплетни да шпионство, и заметьте, когда уже сами от меня всё выпытали, да еще с таким чрезмерным любопытством. А вот Варвара Петровна, так та прямо вчера в самую точку: «Вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь». Да еще же бы нет-с! Какие уж тут цели, когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется, имею причины и не для одних сплетен поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбится. С жиру-с! А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завзятому, так говорить и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так, пожалуй, от нашего принца двери крючком заложите да баррикады в своем же доме выстроите! Да чего уж тут: вот только будь эта mademoiselle Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумасшедшая и не кривоногая, так, ей-богу, подумал бы, что она-то и есть жертва страстей нашего генерала и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин «в своем фамильном достоинстве», как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда уж весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю: поддакивать-то не запрещено-с.
— Город кричит? Об чем же кричит город?
— То есть это капитан Лебядкин кричит в пьяном виде на весь город, ну, а ведь это всё ли равно, что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, — с невинным видом обвел он нас глазами. — Тут случай вышел-с, сообразите-ка: выходит, что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною наиблагороднейшею девицей и, так сказать, скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиблагороднейшего лица, а стало быть достовернейшего, что не триста рублей, а тысяча была выслана!… Стало быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере угрожает и на весь город стучит…
— Это подло, подло от вас! — вскочил вдруг инженер со стула.
— Да ведь вы сами же и есть это наиблагороднейшее лицо, которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодовича, что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.
— Это… это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло… Это вздор, а вы подло!…
— Да и я хочу верить, что вздор, и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиблагороднейшая девушка замешана, во-первых, в семистах рублях, а во-вторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что стоит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с…
— Берегитесь, Липутин! — привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.
— Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян… — восклицал инженер в невыразимом волнении, — всё объяснится, а я больше не могу… и считаю низостью… и довольно, довольно!
Он выбежал из комнаты.
— Так что же вы? Да ведь и я с вами! — всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.
VII
Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал:
— Ах да, вы можете служить свидетелем… de l’accident. Vous m’accompagnerez, n’est-ce pas?[13]
— Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти?
С жалкою и потерянною улыбкой, — улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостанавливаясь:
— Не могу же я жениться на «чужих грехах»!
Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:
— И такая грязная, такая… низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и… еще до Липутина!
Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было, что он сам всё выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось, чтоб он был наказан за это.
— О! Dieu qui est si grand et si bon![14] О, кто меня успокоит! — воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.
— Пойдемте сейчас домой, и я вам всё объясню! — вскричал я, силой поворачивая его к дому.
— Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.
Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.
— Идите, идите же скорее! — звала она громко и весело. — Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он… Неужто не узнаете меня?
Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.
— Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели? Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя потревожить; но ведь я знаю, тетя лжет. Я всё топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился! — рассматривала она его, наклоняясь с седла, — он до смешного не переменился! Ах, нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменилась? Переменилась? Но что же вы всё молчите?
Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.
— Вы… я… — лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, — я сейчас вскричал: «Кто успокоит меня!» — и раздался ваш голос… Я считаю это чудом et je commence à croire.[15]
— En Dieu? En Dieu, qui est là-haut et qui est si grand et si bon?[16] Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал en Dieu, qui est si grand et si bon! А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали: «Земля, земля!». Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала: «Земля, земля!». А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И всё-то неправда, я потом всё узнала, как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды! Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня! Il fait tout ce que je veux.[17] Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?
— Теперь счастлив…
— Тетя обижает? — продолжала она не слушая, — всё та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя! А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала, — да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас всё, всё знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!… Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите, та барышня из окна на нас любуется… Ну, ближе, ближе. Боже, как он поседел!
И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.
— Ну, теперь к вам домой! Я знаю, где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упрямцу, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.
И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.
— Dieu! Dieu![18] — восклицал он, — enfin une minute de bonheur.[19]
Не более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.
— Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps![20] — поднялся он ей навстречу.
— Вот вам букет; сейчас ездила к madame Шевалье, у ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич, прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе.
Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивой и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек; это было не совсем справедливо.
Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши; в-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда — это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и всё объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какою казалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем нехороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась «как победительница и чтобы победить». Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю, удавалось ли ей быть доброю; но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но всё в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, всё было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.
Она села на диван и оглядывала комнату.
— Почему мне в этакие минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала, что и бог знает как буду рада, когда вас увижу, и всё припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что вас люблю… Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!
Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.
— Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?
Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.
— Поскорей возьмите! — воскликнула она, отдавая портрет. — Не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него. — Она села опять на диван. — Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла — началась третья, и всё без конца. Все концы, точно как ножницами, обрезывает. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды!
Она, усмехнувшись, посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить.
— А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?
У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два ятагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.
— Знаю, знаю, — сказала она, — я очень рада. Мама́ об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?
Я покраснел.
— Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала; вовсе не смешное, а так… (Она покраснела и сконфузилась). — Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь уж я ваш конфидент, и обо всем, обо всем, понимаете?
Степан Трофимович тотчас же испугался.
— О, Маврикий Николаевич всё знает, его не конфузьтесь!
— Что же знает?
— Да чего вы! — вскричала она в изумлении. — Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тетя давеча меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит.
— Но… но как вы узнали?
— Ах, боже, так же, как и все. Эка мудрость!
— Да разве все?…
— Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит, что вы ей сами говорили.
— Я… я говорил однажды… — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев, — но… я лишь намекнул… j’étais si nerveux et malade et puis…[21]
Она захохотала.
— А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась, — ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это всё равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано… Да, забыла, — уселась она опять, — слушайте, что такое Шатов?
— Шатов? Это брат Дарьи Павловны…
— Знаю, что брат, какой вы, право! — перебила она в нетерпении. — Я хочу знать, что он такое, какой человек?
— c’est un pense-creux d’ici. c’est le meilleur et le plus irascible homme du monde…[22]
— Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка, и английский, и может литературною работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы; мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали…
— О, непременно, et vous fairez un bienfait…[23]
— Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.
— Я довольно хорошо знаю Шатова, — сказал я, — и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.
— Передайте ему, чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?
Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.
— Mon ami![24] — догнал меня на крыльце Степан Трофимович, — непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и… пред всеми, пред всеми.
VIII
Шатова я не застал дома; забежал через два часа — опять нет. Наконец, уже в восьмом часу я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз, к капитану Лебядкину, чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина, под влиянием давешних рассказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему всё в главных чертах и что у меня есть записка.
— Пойдемте, — сказал он, — я всё сделаю.
Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших тусклых масляных портрета: один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.
Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.
— Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.
Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку.
— А я думал, вы чаю, — сказал он, — я чай купил. Хотите?
Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару.
— Я чай люблю, — сказал он, — ночью; много, хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.
— Вы ложитесь на рассвете?
— Всегда; давно. Я мало ем; всё чай. Липутин хитер, но нетерпелив.
Меня удивило, что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.
— Давеча вышли неприятные недоразумения, — заметил я.
Он очень нахмурился.
— Это глупость; это большие пустяки. Тут всё пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.
— А сегодня мне? — засмеялся я.
— Да ведь вы уже про всё знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или… завидует.
Последнее словцо меня поразило.
— Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено, что под которую-нибудь и подойдет.
— Или ко всем вместе.
— Да, и это правда. Липутин — это хаос! Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать?
— Почему же врал? — нахмурился он опять, уставившись в землю.
Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел.
— Он правду говорил; я пишу. Только это всё равно.
С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.
— Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя; вот и всё. И это всё равно.
— Как не смеют? Разве мало самоубийств?
— Очень мало.
— Неужели вы так находите?
Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.
— Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства? — спросил я.
Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, об чем мы говорили.
— Я… я еще мало знаю… два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.
— Какая же маленькая-то?
— Боль.
— Боль? Неужто это так важно… в этом случае?
— Самое первое. Есть два рода: те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там всё равно… те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка — те много думают.
— Да разве есть такие, что с рассудка?
— Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.
— Ну уж и все?
Он промолчал.
— Да разве нет способов умирать без боли?
— Представьте, — остановился он предо мною, — представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?
— Камень с дом? Конечно, страшно.
— Я не про страх; будет больно?
— Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно.
— А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно.
— Ну, а вторая причина, большая-то?
— Тот свет.
— То есть наказание?
— Это всё равно. Тот свет; один тот свет.
— Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?
Опять он промолчал.
— Вы, может быть, по себе судите?
— Всякий не может судить как по себе, — проговорил он покраснев. — Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, жить или не жить. Вот всему цель.
— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?
— Никто, — произнес он решительно.
— Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, — заметил я, — и так природа велела.
— Это подло, и тут весь обман! — глаза его засверкали. — Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь всё боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет.
— Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?
— Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до…
— До гориллы?
— …До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?
— Если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет.
— Это всё равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут всё, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.
— Самоубийц миллионы были.
— Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.
— Не успеет, может быть, — заметил я.
— Это всё равно, — ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением. — Мне жаль, что вы как будто смеетесь, — прибавил он через полминуты.
— А мне странно, что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.
— Давеча? Давеча было смешно, — ответил он с улыбкой, — я не люблю бранить и никогда не смеюсь, — прибавил он грустно.
— Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем. — Я встал и взял фуражку.
— Вы думаете? — улыбнулся он с некоторым удивлением. — Почему же? Нет, я… я не знаю, — смешался он вдруг, — не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил, — заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.
— А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?
— Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил… мне всё равно.
— Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?
— С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы… впрочем, всё равно… вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, — проговорил он покраснев, — он семь лет умер; старший, очень, очень много.
— Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей.
— Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.
Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. «Разумеется, помешанный», — решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.
IX
Только что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.
— Кто сей? — взревел чей-то голос, — друг или недруг? Кайся!
— Это наш, наш! — завизжал подле голосок Липутина, — это господин Г—в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.
— Люблю, коли с обществом, кла-сси-чес… значит, о-бразо-о-ваннейший… отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей… если верны, если верны, подлецы!
Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный, едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я, впрочем, его и прежде видал издали.
— А, и этот! — взревел он опять, заметив Кириллова, который всё еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.
— Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин — образо-о-ваннейший…
Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната.
И вновь заплакал горькой мукой
По Севастополю безрукий.
— Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! — лез он ко мне с своею пьяною рожей.
— Им некогда, некогда, они домой пойдут, — уговаривал Липутин, — они завтра Лизавете Николаевне перескажут.
— Лизавете!… — завопил он опять, — стой-нейди! Варьянт:
И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок;
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребенок.
«Звезде-амазонке».
— Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! — уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку. — Передай, что я рыцарь чести, а Дашка… Дашку я двумя пальцами… крепостная раба и не смеет…
Тут он упал, потому что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.
— Его Алексей Нилыч подымут. Знает ли, что я сейчас от него узнал? — болтал он впопыхах. — Стишки-то слышали? Ну, вот он эти самые стихи к «Звезде-амазонке» запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Каков!
— Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили.
— Проиграете! — захохотал Липутин. — Влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; Да и ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, — к счастью, не расслышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли, что он хочет рискнуть предложение? Серьезно, серьезно!
— Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот, где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! — проговорил я в ярости.
— Однако же вы далеко заходите, господин Г—в; не сердчишко ли у нас екнуло, испугавшись соперника, — а?
— Что-о-о? — закричал я, останавливаясь.
— А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему всё свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам бог, не лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь дощупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!
X
Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут по крайней мере я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.
— Mon ami, я совсем потерял мою нитку… Lise… я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они ждали меня обе, единственно чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с богом… Это так.
— Как вам не стыдно! — вскричал я, не вытерпев.
— Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c’est ridicule.[25] Представьте, что и там всё это напичкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз проведали об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: «Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший?». И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Nicolas оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется! Ce Maurice,[26] или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même,[27] но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie…[28] Enfin, эта Прасковья, как называет ее cette chère amie,[29] это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.
— Да ведь это сундук выйдет; уж и в увеличенном?
— Ну, в уменьшенном, всё равно, только не перебивайте, потому что у меня всё это вертится. Там они совсем расплевались; кроме Lise; та всё еще: «Тетя, тетя», но Lise хитра, и тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre[30] тетя, правда, всех деспотирует… а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и «непочтительность» Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas,[31] и-и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами… О, как я мучил ее, и в такое время! Je suis un ingrat![32] Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О, как неблагородно было с моей стороны.
Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утрешнем своем: «Сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимовича ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей своих (в скобках стояло мое имя). С своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. «Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?».
— Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило… Я, признаюсь, всё еще надеялся, а теперь tout est dit,[33] я уж знаю, что кончено; c’est terrible.[34] О, кабы не было совсем этого воскресенья, а всё по-старому: вы бы ходили, а я бы тут…
— Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни.
— Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, pardon,[35] но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по глупости моей, всё время, пока был у Lise, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь… о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, — то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька, cette pauvre тетя, как грациозно называет ее Lise… И вдруг, после двадцати лет, ребенок захотел жениться, жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и… и вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать… И чего сам настаивал, ну зачем я письма писал? Да, забыл: Lise боготворит Дарью Павловну, говорит по крайней мере; говорит про нее: «c’est un ange,[36] но только несколько скрытный». Обе советовали, даже Прасковья… Впрочем, Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой Коробочке! Да и Lise, собственно, не советовала: «К чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений». Хохочет. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там… Ma foi,[37] я и сам, всё это время с вами сидя, думал про себя, что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих и что она меня укроет, или как там… enfin,[38] понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой сор, вон, смотрите, всё это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. La pauvre amie всё сердилась, что у меня сор… О, теперь уж не будет раздаваться голос ее! Vingt ans![39] И-и у них, кажется, анонимные письма, вообразите, Nicolas продал будто бы Лебядкину имение. c’est un monstre; et enfin,[40] кто такой Лебядкин? Lise слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел, с каким лицом она слушала, и ce Maurice… я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même, но несколько застенчив; впрочем, бог с ним…
Он замолчал; он устал и сбился и сидел, понурив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филлиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Nicolas, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может быть, что Лебядкин почему-нибудь получает с Nicolas деньги, но вот и всё. Насчет же сплетен о Дарье Павловне, то всё это вздор, всё это натяжки мерзавца Липутина, и что так по крайней мере с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов, может быть, сумасшедший.
— Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями — вяло и как бы нехотя промямлил он. — Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu’elles ne sont réelement.[41] С ними заигрывают, но по крайней мере не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère amie (о, как я тогда оскорблял ее!), и не только их ругательств, — я даже их похвал не испугался. Не испугаюсь и теперь, mais parlons d’autre chose…[42] я, кажется, ужасных вещей наделал; вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и… как я кляну себя за это!
— О чем же вы писали?
— О друг мой, поверьте, что всё это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Nicolas, еще дней пять назад, и тоже с благородством.
— Понимаю теперь! — вскричал я с жаром. — И какое право имели вы их так сопоставить?
— Но, mon cher, не давите же меня окончательно, не кричите на меня; я и то весь раздавлен, как… как таракан, и, наконец, я думаю, что всё это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было… en Suisse…[43] или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы… enfin, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге… Я единственно из благородства.
— О боже, как вы глупо сделали! — невольно сорвалось у меня.
— Глупо, глупо! — подхватил он даже с жадностию. — Никогда ничего не сказали вы умнее, c’était bête, mais que faire, tout est dit.[44] Всё равно женюсь, хоть и на «чужих грехах», так к чему же было и писать? Не правда ли?
— Вы опять за то же!
— О, теперь меня не испугаете вашим криком, теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский; тот похоронен; enfin, tout est dit.[45] Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит? Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. «Если хочешь победить весь мир, победи себя», — единственно, что удалось хорошо сказать другому такому же, как и вы, романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а между тем что́ завоюю вместо целого-то мира? О друг мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть разумеется, не мои; мудрый не боится заглянуть в лицо истине… Липутин предлагал давеча спастись от Nicolas баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Le bon Dieu,[46] создавая женщину, уж конечно, знал, чему подвергался, но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и… с такими атрибутами; иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может, и рассердится на меня за вольнодумство, но… enfin, tout est dit.
Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго.
— О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью! — воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, — почему бы не быть хоть одной этой неделе без воскресенья — si le miracle existe?[47] Ну что бы стоило провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество, et que tout soit dit![48] О, как я любил ее! двадцать лет, все двадцать лет, и никогда-то она не понимала меня!
— Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! — спросил я с удивлением.
— Vingt ans! И ни разу не поняла меня, о, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О позор! тетя, тетя, я для тебя!… О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащат меня под этот ce qu’on appelle le[49] венец!
Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был не прав.
— Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! — всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новою мыслию, — теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня и — о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша… и хоть я недостоин названия отца, а скорее тигра, но… laissez-moi, mon ami,[50] я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, voyez-vous,[51] двенадцать часов…
Глава трета
Чужди грехове
I
Мина около седмица и работата взе малко да се пораздвижва.
Мимоходом ще отбележа, че през тая проклета седмица изкарах голямо тегло, бидейки почти неотлъчно край единия ми сгоден приятел, в качеството си на негов най-близък конфидент[1]. Тежеше му главно срамът, макар през тая седмица с никого да се не бяхме виждали и все сами да бяхме; но го беше срам дори от мен и дотам, че колкото повече ми се разкриваше, толкова повече го бе яд на мене за това. А пък поради своята мнителност подозираше, че вече всички знаят, целият град знае, и не само в клуба, но и сред приятелите се боеше да се покаже.
На разходка даже, за да си направи нужния моцион, излизаше само по пълен здрач, когато съвсем се стъмнеше.
Мина седмица, а той все още не знаеше годен ли е, или не, и не можеше да го узнае със сигурност, както и да се мъчеше. С годеницата още не бе се виждал, дори не знаеше дали наистина му е годеница; не знаеше даже има ли във всичко това поне малко от малко истина! Кой знае защо, Варвара Петровна просто не го допущаше до себе си. На едно от първите му писма (а й ги беше написал множество) направо му бе отговорила с молбата да я избави за известно време от всякакви сношения, тъй като била заета, а доколкото и тя имала да му съобщава много, и то твърде важни неща, нарочно изчаквала някоя по-свободна минута и след време щяла да му съобщи кога ще може да се яви при нея. А за писмата му пък обещаваше да ги връща обратно неразпечатани, защото това са „просто едни глезотии“. Тая й бележка я четох лично; самият той ми я беше показал.
И все пак всички тия грубости и неясноти, всичко това беше едно нищо в сравнение с главната му грижа. Тази грижа го измъчваше невероятно, неотстъпно; от нея слабееше и падаше духом. Това беше нещо, от което най-вече се срамуваше и за което не щеше да приказва дори с мене; напротив, дойдеше ли дотук, лъжеше и мажеше като малко момче; а същевременно самият той пращаше да ме викат всекидневно, два часа не можеше да мине без мене, нуждаеше се от мен като от вода и въздух.
Такова държане засягаше донейде самолюбието ми. То се знае, аз отдавна бях отгатнал за себе си тая му главна тайна и виждах всичко като на длан. По дълбокото ми тогавашно убеждение тази тайна, тази главна грижа на Степан Трофимович не му правеше чест и затова като все още млад човек бях малко възмутен от грубите му чувства и от някои негови некрасиви подозрения. В яда си и, признавам, поради отегчението от ролята на конфидент съм прекалявал може би с обвиненията. В жестокостта си го карах самият той да ми признае всичко, макар и да допусках впрочем, че да си признаеш някои неща, не ще да е май лесно. Аз също му бях ясен, тоест ясно му беше, че го виждам целия като на длан и дори ме е яд на него, и самият той ми се ядосваше и задето ме е яд на него, и задето го виждам като на длан. То се знае, ядът ми беше дребнав и глупав; но взаимното уединение понякога извънредно вреди на истинската дружба. От известно място той вярно схващаше някои страни на своето положение и дори твърде тънко го определяше в ония му пунктове, в които не намираше за нужно да се таи.
— О, такава ли бе тя тогава! — изпущаше се той понякога за Варвара Петровна. — Такава ли бе преди, когато водехме нашите разговори… Известно ли ви е, че тогава тя все още можеше да разговаря? Ще ми повярвате ли, че тя имаше мисли, свои мисли. Сега всичко се е променило! Казва, че всичко това било едновремешни брътвежи! Презира някогашното… Сега тя е някакъв управител, домакин, ожесточен човек и все се сърди…
— Че за какво ще се сърди сега, когато изпълнихте искането й? — възразих му аз.
Той ми отправи тънък поглед.
— Cher ami, ако не бях се съгласил, тя щеше да се разсърди ужасно, ужа-а-сно, но все пак по-малко, отколкото сега, когато се съгласих.
От тая си фраза остана доволен и вечерта си изпихме една бутилчица. Но това бе само миг; на другия ден бе по-зле и помрачен откогато и да било.
Но най-много ме беше яд на него, дето не се решаваше да иде даже у пристигналите Дроздови и да направи необходимата визита за подновяване на познанството, което, както се чу, самите те желаят, тъй като вече питали за него, пък и той се измъчваше всекидневно. За Лизавета Николаевна говореше с някакъв необясним за мене възторг. Без съмнение той помнеше детето, което навремето толкова бе обичал; но покрай това, неизвестно защо, си въобразяваше, че с нея тутакси ще намери облекчение на всичките си сегашни терзания и дори решение на най-важните си колебания. В лицето на Лизавета Николаевна очакваше да срещне някакво необикновено същество. И все пак не отиваше у тях, въпреки че всеки ден се канеше. Главното беше, че тогава на самия мен ужасно ми се искаше да й бъда представен и препоръчан, за което можех да разчитам единствено и само на Степан Трофимович. Честите ни срещи, естествено, на улицата — когато излизаше на разходка, облечена с амазонка и яхнала прекрасния си кон, заедно с тъй наречения си роднина, един красив офицер, племенник на генерал Дроздов, — ми правеха тогава изключително впечатление. Заслепението ми продължи само миг и после самият аз много бързо осъзнах цялата нереалност на моята мечта — но макар и миг, то наистина съществуваше, а поради това може да си представите как се ядосвах понякога на горкия си приятел за неговото упорито затворничество.
Всички наши още от самото начало бяха официално уведомени, че Степан Трофимович известно време няма да приема и моли да бъде оставен на спокойствие. Той беше настоял за циркулярното предуведомление, макар да го раздумвах. И пак аз обиколих по негова молба всички и на всички разправих, че Варвара Петровна е поръчала на нашия „старец“ (тъй наричахме помежду си Степан Трофимович) някаква екстремна работа, да сложи в ред някаква дългогодишна кореспонденция, че се е затворил, а аз му помагам и пр., и пр. Само у Липутин не сварих да намина и все отлагах — а по-точно казано, боях се да намина. Отнапред знаех, че думица няма да ми повярва, непременно ще си науми, че тук има тайна, която всъщност искат да скрият само от него, и в момента, когато си изляза от тях, ще хукне по целия град да подпитва и клюкарства. Докато си представях всичко това, стана тъй, че случайно се сблъскахме с него на улицата. Оказа се, че вече знае всичко от нашите, току-що уведомени от мен. Но, чудно нещо, не само не прояви любопитство и не ме разпитва за Степан Трофимович, а напротив, самият той ме прекъсна, когато почнах уж да се извинявам, че не съм отишъл у тях по-рано, и моментално мина на друга тема. Вярно, имаше какво да разкаже; беше в изключително възбудено състояние на духа и се зарадва, че си е хванал в мое лице слушател. Заговори за градските новини, за пристигането на губернаторшата „с новите веяния“, за образувалата се вече в клуба опозиция, за това, че всички крещят за нови идеи, че това било заразило всички и пр., и пр. Приказва около четвърт час, и тъй забавно, че не можех да се откъсна. Макар и да не можех да го понасям, но, признавам, имаше дар да те накара да го слушаш и особено когато много го беше яд на нещо. Според мен тоя човек беше истински и роден шпионин. Знаеше всеки момент всички най-последни новини и цялото долно бельо на нашия град, предимно мръсотийките, и да му се чудиш до каква степен вземаше присърце неща, които понякога съвсем не го засягаха. Винаги ми се е струвало, че главната черта на характера му беше завистта. Когато вечерта съобщих на Степан Трофимович за сутрешната си среща с Липутин и за нашия разговор, той за мое учудване извънредно се развълнува и ми зададе нелепия въпрос: „Знае ли Липутин, или не?“ Взех да му доказвам, че не е имало възможност да научи толкова бързо, пък и няма от кого, но Степан Трофимович държеше на своето.
— Ако щете вярвайте — неочаквано заключи той накрая, — но съм убеден, че той не само знае всичко до най-малките подробности за нашето положение, но знае и нещо повече от това, нещо такова, което нито вие, нито аз още знаем, а може би никога няма и да научим или ще научим, когато бъде късно, когато вече няма връщане!…
Аз си замълчах, но тия думи говореха за много неща. След това цели пет дни не стана и дума за Липутин; беше ми ясно, че Степан Трофимович крайно съжалява, задето се бе изтървал и бе изказал пред мен подобни подозрения.
II
Една сутрин — тоест на седмия или осмия ден след като Степан Трофимович се съгласи на годежа — към единайсет часа, когато, както обикновено, бързах за моя скръбен приятел, по пътя ми се случи едно приключение.
Срещнах Кармазинов, „великия писател“, както го величаеше Липутин. Кармазинов бях чел още като малък. Повестите и разказите му са известни на цялото предишно и дори на нашето поколение; мен те просто ме опияняваха; те бяха насладата на юношеството ми, на младостта ми. Впоследствие малко охладнях към перото му; тенденциозните повести, които постоянно пишеше в последно време, вече не ми харесваха тъй, както първоначалните му творби, в които имаше толкова непосредствена поезия; а най-последните му съчинения дори никак не ми харесваха.
Изобщо, ако се осмеля да изразя и своето мнение по такъв един деликатен въпрос, всички тия наши господа таланти от средна ръка, приемани обикновено още приживе едва ли не за гении — не само изчезват почти безследно и някак изведнъж от хорската памет, когато умрат, но се случва, че още приживе — щом само поотрасне ново поколение на мястото на онова, при което са действали те — непостижимо бързо биват забравени и пренебрегвани от всички. Някак внезапно става това у нас, досущ като смяна на декора в театър. О, това не е като с пушкиновци, гоголевци, молиеровци, волтеровци, с всички онези дейци, дошли да кажат своето ново слово! Вярно е и това, че у нас самите тези господа таланти от средна ръка, на склона на една почтена възраст, обикновено по най-жалък начин се изписват, без ни най-малко да го забелязват. Често се оказва, че писателят, комуто са приписвали изключителна дълбочина на идеите и от когото са очаквали изключително и сериозно влияние върху развитието на обществото, разкрива накрая такава рехавост и такава нищожност на основната си идейка, че никой дори не съжалява, дето толкова бърже се е изписал. Но беловласите старчета не забелязват това и се сърдят. Самолюбието им, именно на края на тяхното поприще, взема понякога размери, достойни за богове. За Кармазинов разправяха, че държи на връзките си със силните на деня и с висшето общество едва ли не повече, отколкото на душата си. Разправяха, че той ще ви посрещне и приласкае, ще ви очарова и омае с простодушието си, особено ако сте му нещо нужен, и то се подразбира, ако предварително сте му били препоръчан. Но появи ли се първият княз, първата графиня, първият човек, от когото се бои, ще сметне за свой най-свещен дълг да ви смаже с най-оскърбително пренебрежение, като шушка, като муха, и то тутакси, още преди да сте си излезли; той сериозно смятал това за израз на добър тон. Въпреки цялото си самообладание и изтънко познаване на добрите маниери самолюбието му, казват, стигало до такава истерика, че по никой начин не можел да скрие авторската си раздразнителност дори и в онези обществени кръгове, които малко се интересуват от литература. Ако някой случайно го озадачал с равнодушието си, той болезнено се обиждал и гледал да си отмъсти.
Преди около година четох в едно списание негова статия, написана със страшна претенция за най-целомъдрена поезия, и при това за психология. Описваше гибелта на един параход[2] някъде край английския бряг, на което самият той бил свидетел и видял как спасяват загиващите и измъкват удавниците. Цялата тази статия, доста дълга и многословна, бе написана с единствената цел да изтъкне себе си. Просто се четеше между редовете: „От мене, от мене се интересувайте, гледайте какъв съм бил в тези минути. Защо ви са морето, бурята, скалите, отломките от разбития кораб? Та аз ви го описах достатъчно точно с могъщото си перо. Какво я гледате тази удавница с мъртвото дете в мъртвите ръце? По-добре мен вижте — как не издържах това зрелище и се извърнах. Ето ме, застанал гърбом; ето ме, обзет от ужас и безсилен да се обърна назад; ето ме, замижал — колко интересно, нали?“ Когато съобщих мнението си за статията на Кармазинов на Степан Трофимович, той се съгласи с мен.
Щом плъзнаха слуховете, че идвал Кармазинов, на мен, разбира се, ужасно ми се дощя да го видя и по възможност да се запозная с него. Знаех, че бих могъл да го направя чрез Степан Трофимович; навремето са били приятели. И ето че внезапно го срещнах на улицата. Веднага го познах; бяха ми го показвали вече преди три дни, когато минаваше с каляската на губернаторшата.
Беше твърде ниско, надуто старче, впрочем не повече от петдесет и пет годишен, с доста румено личице, с гъсти побелели къдрички, изскочили под кръглото цилиндрично бомбе и засукани около малките му чистички, розови ушенца. Чистичкото му личице беше недотам красиво, с тънки, продълговати, хитро свити устни, с малко месест нос и остри, умни, малки очички. Облечен бе някак вехто, с някаква наметка на плещите, каквато например биха носили през този сезон някъде в Швейцария или в Северна Италия. Но във всеки случай всички дреболийки: ръкавели, якички, копчета, лорнетът с дръжка от костенурка на тънка черна лентичка, пръстенът, бяха изкусурени както у хората с безукорно добър вкус. Убеден съм, че през лятото непременно носи обущенца с цвят на синя слива и седефени копченца отстрани. Когато се срещнахме, той се беше спрял на ъгъла на улицата и внимателно се оглеждаше. Забелязвайки, че го наблюдавам с любопитство, той с медено, макар и малко кресливо гласче ме попита:
— Бихте ли ми казали как най-пряко да изляза на улица „Бикова“?
— „Бикова“ ли? Че то е ей тука, съвсем близко — викнах аз с необикновено вълнение. — Все направо по тази улица и после вторият завой наляво.
— Много ви благодаря.
Проклета да е тази минута: аз май се бях смутил и гледах раболепно! Той моментално го забеляза, тутакси разбра всичко, тоест разбра, че зная кой е той, че съм го чел и съм благоговял пред него от малък, че сега съм се смутил и гледам раболепно. Усмихна се, кимна още веднъж с глава и тръгна направо, както му бях посочил. Не знам защо, и аз се обърнах и тръгнах подире му; не знам защо, десетина крачки подтичвах край него. Той изведнъж отново се спря.
— А не бихте ли могли да ми кажете, къде най-близо има файтони? — пак изкряка той.
Отвратителен крясък; отвратителен глас!
— Файтони ли? Ами файтоните са съвсем близко оттука… пред храма стоят, винаги там стоят. — И ето че за малко не хукнах да му търся файтон. Подозирам, че той тъкмо това е очаквал от мене. Разбира се, тутакси се опомних и спрях, но той много добре беше забелязал движението ми и ме наблюдаваше с все същата отвратителна усмивка. И ето че стана онова, което никога няма да забравя.
Той внезапно изпусна мъничкия сак, който държеше в лявата си ръка. Впрочем това не беше сак, а някаква кутийка, по-точно някаква чантичка или още по-точно дамска торбичка, от ония старинните дамски торбички за ръкоделие, впрочем не знам какво беше това, но знам, че май аз се впуснах да го вдигам.
Напълно съм убеден, че не го вдигнах, но първото движение, което бях направил, бе неоспоримо; да го прикрия, вече не можех и се изчервих като глупак. Хитрецът моментално извлече от обстоятелствата всичко, което можеше да се извлече.
— Не се безпокойте, моля ви — очарователно рече той, тоест когато вече добре видя, че няма да му вдигна торбичката, вдигна я, като да ме предварваше, кимна още веднъж с глава и си продължи по пътя, оставяйки ме да стоя като последен глупак. Все едно че аз я бях вдигнал. Около пет минути се смятах за опозорен навеки; но наближавайки дома на Степан Трофимович, изведнъж се разсмях. Срещата ми се видя толкова забавна, че незабавно реших да развлека с разказа си Степан Трофимович и дори да му изиграя цялата сцена.
III
Но за мое учудване този път го заварих в съвсем друго състояние. Наистина той още с влизането някак жадно се хвърли насреща ми и почна уж да слуша, но видът му беше толкова объркан, че отначало като че ли не разбираше какво говоря. Но щом произнесох името на Кармазинов, той най-неочаквано кипна.
— Не ми говорете, не го произнасяйте! — възкликна той, едва ли не побеснял. — На, на, вижте, четете! Четете!
Отвори чекмеджето и хвърли на масата три малки листчета, изписани набърже с молив, все от Варвара Петровна. Първата бележка бе от завчера, втората от вчера, а последната беше дошла днес, само преди час; и все за Кармазинов, при което се виждаше суетното и честолюбиво вълнение на Варвара Петровна от страха, че Кармазинов ще забрави да я посети. Ето първата, завчерашната (вероятно беше и от по-завчера, а може и от по-предния ден):
„Ако днес най-сетне ви удостои — за мене, ще ви моля, нито дума. Нито най-малкия намек. Не отваряйте дума и не напомняйте.
Вчерашната:
„Ако реши най-сетне тази сутрин да ви посети, най-благородно ще е, мисля аз, изобщо да не го приемате. Тъй е според мен, не знам според вас как е.
Днешната, последната:
„Сигурна съм, че у вас има цяла кола смет и не може да се диша от вашите цигари. Ще ви пратя Маря и Фомушка; те за половин час ще разтребят. Не им се бъркайте и постойте в кухнята, докато разтребват. Пращам ви бухарския килим и две китайски вази: отдавна се канех да ви ги подаря, и освен тях моя Тениер[3] (временно). Вазите може да се поставят на прозореца, а Тениер окачете отдясно над портрета на Гьоте, там най се вижда и сутрин винаги е светло. Ако най-сетне се появи, приемете го с изтънчена вежливост, но се помъчете да говорите за незначителни неща, нещо научно, и се правете, че сякаш вчера сте се разделили. За мене нито дума. Може би ще намина у вас за малко привечер.
P. S. Ако и днес не дойде, изобщо няма да дойде.“
Прочетох и се учудих, че е изпаднал в такова вълнение от едно нищо. Погледнах го въпросително и изведнъж забелязах, че докато съм чел, той е успял да смени всякогашната си бяла връзка с червена. Шапката и бастунът му бяха на масата. Самият той беше бледен и дори ръцете му трепереха.
— Не ща и да знам за вълненията й! — истерично кресна той, отговаряйки на въпросителния ми поглед. — Je m’en fiche![4] Намира сили да се вълнува заради Кармазинов, а на мен, на писмата ми не отговаря! Ей го, ей го неразпечатано писмото ми, което вчера ми върна, ей го тук на масата, под книгата, под „L’homme qui rit“[5]. Какво ме интересува, че се била съсипвала за своя Ни-ко-лаенка! Je m’en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke![6] Вазите скрих в антрето, Тениер в скрина, а от нея поисках незабавно да ме приеме. Чувате ли: поисках! Пратих й същото такова листче, с молив, незапечатано, по Настася и чакам. Искам лично Даря Павловна да ми го обяви със собствените си уста и пред това небе или в краен случай пред вас. Vous me seconderez, n’est ce pas, comme ami et témoin?[7] Не искам да се червя, не искам да лъжа, не искам тайни, аз няма да допусна тайни в тази работа! Да ми признаят всичко, откровено, искрено, благородно и тогава… тогава аз може би ще учудя цяло едно поколение с великодушието си!… Подлец ли съм аз, или не, милостиви господине? — заключи той изведнъж, гледайки ме страшно, сякаш наистина го смятах за подлец.
Помолих го да пийне вода; не бях го виждал още в такова състояние. През всичкото време, докато говореше, тичаше от единия ъгъл на стаята до другия, но изведнъж застана пред мен в някаква необичайна поза.
— Мигар смятате — пак почна той, оглеждайки ме с болезнено високомерие от горе до долу, — мигар можете да допуснете, че аз, Степан Верховенски, не ще намеря у себе си толкова нравствена сила, че да взема торбичката си — да, сиромашката си торбичка! — и мятайки я на слабите си плещи, да изляза от вратата и да изчезна навеки оттук, щом го поиска честта и великият принцип на независимостта? На Степан Верховенски не му е за първи път да отблъсква деспотизма с великодушие, та било и деспотизмът на една луда жена, тоест най-обидният и жесток деспотизъм, който може да съществува на тоя свят, независимо от това, че вие май си позволихте да се усмихнете на думите ми, милостиви господине! О, вие не вярвате, че ще мога да намеря у себе си толкова великодушие, че да съумея да свърша живота си като гуверньор у някой търговец или да умра от глад край някой плет! Отговаряйте, отговаряйте незабавно: вярвате или не вярвате?
Но аз нарочно си замълчах. Престорих се дори, че не се решавам да го обидя с отрицателния си отговор, но и утвърдително не можех да му отговоря. В цялото това избухване имаше нещо такова, което направо ме обиждаше, и не лично, о, не! Но… после ще го обясня.
Той дори пребледня.
— Може би аз ви отегчавам, Г-в (така се казвам), и бихте желали… изобщо да не ме посещавате? — изрече той с онзи тон на ледено спокойствие, който обикновено предшества някакво необикновено избухване. Скочих изплашено; в този момент влезе Настася и мълчаливо подаде на Степан Трофимович листче, на което беше написано нещо с молив. Прегледа го и ми го подаде. На листчето с почерка на Варвара Петровна бяха написани само думите: „Стойте си вкъщи.“
Степан Трофимович мълчаливо грабна шапката и бастуна си и бързо излезе от стаята; аз машинално го последвах. Изведнъж откъм коридора се зачуха гласове и шум, нечии бързи стъпки. Той се спря като поразен от гръм.
— Това е Липутин и аз съм загинал! — прошепна той, хващайки ме за ръката.
В същия миг в стаята влезе Липутин.
IV
Защо трябваше да загине от Липутин, не знаех, пък и не придадох значение на думата; всичко отдавах на нервите. Но все пак уплахата му беше необикновена и реших много да внимавам.
Дори самият вид на влизащия Липутин говореше, че тоя път пристига с правото да влезе независимо от всички забрани. Водеше със себе си един непознат господин, навярно отскоро в града. В отговор на безсмисления поглед на вцепенилия се Степан Трофимович той тутакси гръмко възвести:
— Гост ви водя, хем особен! Осмелявам се да наруша уединението. Господин Кирилов, най-превъзходният ни инженер-строител. А главното, че негова милост се знае със синчето ви, с многоуважаемия Пьотър Степанович; хем много изкъсо; и заръка ви носи от негова милост. Току-що пристига, значи.
— За заръката го притурихте — остро забеляза гостът, — заръка няма никаква, а Верховенски, вярно, зная го. Оставих го в Х-ска губерния преди десет дни.
Степан Трофимович машинално подаде ръка и посочи да седнат; погледна мен, погледна Липутин и внезапно, сякаш опомнил се, побърза и той да седне, но все още с шапката и бастуна в ръцете, макар дори да не го забелязваше.
— Ама вие сте тръгнали да излизате! А на мен пък ми се каза, че съвсем сте се поболели от работа.
— Да, болен съм, и сега исках да се разходя, аз… — Степан Трофимович се спря, бързо хвърли на дивана шапката и бастуна и се изчерви.
Аз междувременно набърже разгледах госта. Беше още млад човек, близо двайсет и седем годишен, прилично облечен, строен и сух брюнет, с бледо, малко землисто лице и черни, без блясък очи. Изглеждаше малко замислен и разсеян, говореше спънато и някак неграматически, някак странно разместваше думите и ако трябваше да състави по-дълга фраза, се заплиташе. Липутин безпогрешно беше забелязал изключителната уплаха на Степан Трофимович и явно беше доволен. Той седна на плетения стол, издърпвайки го почти насред стаята, за да се намира на еднакво разстояние от домакина и госта, настанили се един срещу друг на двата противоположни дивана. Зорките му очи любопитно шареха.
— Аз… отдавна вече не съм виждал Петруша… В странство ли сте се срещали? — измърмори с половин уста Степан Трофимович.
— И тук, и в странство.
— Алексей Нилич, значи, току-що се прибира от странство след четиригодишно отсъствие — поде Липутин, — бил там, значи, за собствено усъвършенстване по своята си специалност и идва у нас, имайки основанието да се надява за място в строежа на нашия железопътен мост и сега е в очакване на отговор. С господата Дроздови, с Лизавета Николаевна се познава чрез Пьотър Степанович.
Инженерът седеше някак начучулен и слушаше с неловко нетърпение. Стори ми се, че е за нещо сърдит.
— Негова милост и с Николай Всеволодович се познава значи.
— Значи познавате Николай Всеволодович? — осведоми се Степан Трофимович.
— Знам го.
— Аз… аз вече извънредно дълго не съм виждал Петруша и… тъй като не се смятам твърде в правото да се наричам баща… c’est le mot[8], аз… Как е той?
— Ами така… той ще дойде — пак побърза да се отърве господин Кирилов. Той направо се сърдеше.
— Ще си дойде! Най-после аз… Видите ли, аз твърде отдавна не съм виждал Петруша! — запъна на тая фраза Степан Трофимович. — Сега чакам бедното си момче, пред което… о, пред което съм толкова виновен! Тоест аз собствено, искам да кажа, че оставяйки го тогава в Петербург, аз… с една дума, аз го смятах за едно нищо, quelque chose dans ce genre[9]. Нервно, разбирате ли, момче, много чувствително и… боязливо. На лягане се кланяше до земята и прекръстваше възглавницата, та да не умрел през нощта… je m’en souviens. Enfin[10] никакво чувство за изящното, тоест нещо висше, някакъв зародиш на бъдеща идея… c’était comme un petit idiot[11]. Впрочем самият аз май се обърках, извинете, аз… заварвате ме…
— Сериозно ли прекръствал възглавницата? — с някакво особено любопитство се осведоми инженерът внезапно.
— Да, прекръстваше я…
— Не, аз просто тъй; продължавайте.
Степан Трофимович въпросително погледна Липутин.
— Много съм ви благодарен за визитата, но да си призная, сега… не съм в състояние… Позволете все пак да узная, къде сте отседнали?
— Богоявленска улица, домът на Филипов.
— А, това е там, дето Шатов живее — обадих се аз неволно.
— Именно, в същата къща — възкликна Липутин, — само че Шатов е горе, в мансардата, а негова милост се настани долу, у капитан Лебядкин. Негова милост и с Шатов се знаят, и с жена му на Шатов се знаят. Много изкъсо се знаят с нея от странство.
— Comment![12] Нима вие наистина знаете нещо за този нещастен брак на de ce pauvre ami[13] и за тази жена? — възкликна Степан Трофимович, увличайки се внезапно. — Вие сте първият, когото срещам да я познава лично; и ако не…
— Каква глупост! — отряза инженерът и целият пламна. — Как притуряте само, Липутин! Не съм виждал жената на Шатов; веднъж само, отдалече, никакво изкъсо… Шатов го познавам. Защо притуряте разни неща?
Той рязко се завъртя на дивана, взе си шапката, после пак я остави и сядайки както преди, впери някак предизвикателно черните си припламнали очи в Степан Трофимович. Аз просто не можех да си обясня тази странна нервност.
— Извинете — внушително каза Степан Трофимович, — разбирам, че това може да е твърде деликатно.
— Нищо твърде деликатно няма и дори е срамота, аз викнах, че са „глупости“ не на вас, а на Липутин, защо притуря? Извинете, ако за себе си го взехте. Познавам Шатов, а жена му съвсем не я знам… съвсем не я знам!
— Разбрах, разбрах, и ако настоявах, то е само защото много обичам нашия беден приятел, notre irascible ami[14] и винаги съм се интересувал… Според мен този човек твърде рязко промени предишните си, може би твърде младежки, но все пак правилни убеждения. И сега такива ги дрънка за notre sainte Russie, че отдавна вече приписвам този негов внезапен прелом — не искам да го нарека инак — на големите му семейни тревоги и по-точно на несполучливата му женитба. Аз, който съм изучил моята бедна Русия като дланта си, а на руския народ съм отдал целия си живот, мога да ви уверя, че той не познава руския народ и отгоре на всичко…
— Аз също съвсем не познавам руския народ и… никакво време за изучаване нямам! — пак отряза инженерът и пак рязко се завъртя на дивана. Степан Трофимович засече насред речта си.
— Негова милост проучва, проучва — поде Липутин, — вече е почнал проучването и съставя крайно любопитна статия за причините за зачестилите случаи на самоубийство в Русия и въобще за причините, усилващи или задържащи разпространението на самоубийството в обществото. Стигнал е до учудващи резултати.
Инженерът страшно се развълнува.
— Нямате правото — гневно замърмори той, — съвсем не е статия. Не искам глупости. Конфиденциално ви запитах, съвсем случайно. Никаква статия не е; аз не публикувам, а вие нямате правото…
Липутин явно се наслаждаваше.
— Виноват, значи, може и да съм сгрешил, наричайки вашия литературен труд статия. Негова милост само събира наблюдения, а същността на въпроса, нравствената му страна съвсем не засяга и дори съвсем отхвърля самата нравственост, а се придържа към най-новия принцип на всеобщото разрушение[15] заради добрите крайни цели. Негова милост иска вече над сто милиона глави за въдворяване на здравия разум в Европа, много повече, отколкото на последния световен конгрес бе поискано. В този смисъл Алексей Нилич е отишъл най-далеч.
Инженерът слушаше с презрителна и бледа усмивка. Около половин минута всички мълчаха.
— Всичко това е глупаво, Липутин — каза най-сетне господин Кирилов с известно достойнство. — Ако случайно съм ви казал някои пунктове, а вие ги подхващате, значи, както щете. Но нямате правото, защото аз никога никому не говоря. Презирам да говоря… Ако има убеждения, за мен е ясно… а вие направихте глупост. Аз не разсъждавам върху тези пунктове, дето всичко е свършено. Не мога да понасям, като разсъждават. Никога не ща да разсъждавам…
— И може би чудесно правите — не се стърпя Степан Трофимович.
— Аз ви се извинявам, но не се сърдя на никого тук — продължаваше гостът разгорещената си скоропоговорка, — четири години виждах малко хора… Четири години малко разговарях, стараех се да не се срещам заради моите цели, които не засягат никого, четири години. Липутин откри това и се смее. Аз разбирам и всичко пренебрегвам. Не съм обидчив, само е досадно, че си позволява. А ако не излагам мисли с вас — заключи той неочаквано, оглеждайки всички ни с твърд поглед — не е, щото се боя от вас за донос до правителството, това не; моля ви, не помисляйте глупости в този смисъл…
На тези думи вече никой нищо не отговори, а само се спогледахме. Дори самият Липутин забрави да се ухили.
— Господа, аз много съжалявам — решително стана Степан Трофимович, — но се чувствам неразположен и разстроен. Извинете.
— Ах, туй значи да си ходим — сепна се господин Кирилов, сграбчвайки шапката си, — добре, че казахте, щото аз забравям.
Той стана и простодушие отиде с протегната ръка при Степан Трофимович:
— Жалко, че сте болен, а аз дойдох.
— Желая ви да преуспеете у нас — отвърна Степан Трофимович, стискайки му ръката доброжелателно и спокойно. — По думите ви съдя, че щом толкова дълго сте живели в чужбина, странейки заради своите цели от хората, и сте забравили Русия, естествено, по неволя ще гледате на нас, тукашните руснаци, с учудване, както и ние на вас. Mais cela passera[16]. Озадачава ме само едно: искате да строите нашия мост и същевременно заявявате, че държите за принципа на поголовно разрушение. Няма да ви позволят да строите нашия мост!
— Как? Как го казахте… дявол да го вземе! — възкликна поразеният Кирилов и изведнъж ясно и весело се разсмя. За миг лицето му придоби най-детски израз и както ми се стори, много му отиваше. Липутин потриваше длани във възторг от сполучливия израз на Степан Трофимович. А аз продължавах да се чудя: защо се беше изплашил толкова от Липутин Степан Трофимович и защо извика „загубен съм“, като го чу да идва.
V
Всички стояхме на вратата. Беше оня миг, когато домакините и гостите си разменят набърже последните и най-любезни думици, а след това благополучно се разделят.
— Негова милост затова е тъй мрачен днеска — подметна изведнъж Липутин, вече съвсем на излизане от стаята й, тъй да се каже, мимоходом, — защото и одеве имаха спречкване с капитан Лебядкин заради сестричето му. Капитан Лебядкин всекидневно сутрин и вечер пердаши прекрасното си умопобъркано сестриче с нагайката, истинска казашка нагайка. Та Алексей Нилич дори се изнесе в пристройката на двора, та да не присъства. Хайде, довиждане, значи.
— Сестра? Болна? С нагайка? — просто изкрещя Степан Трофимович, сякаш внезапно бяха шибнали с нагайка самия него. — Каква сестра? Какъв Лебядкин?
Предишната му уплаха моментално се върна.
— Лебядкин? А, това е онзи бившият капитан, дето по-рано казваше, че бил щабскапитан…
— Какво ме интересуват чиновете му! Каква сестра? Боже мой… Лебядкин ли казвате? Но нали имахме един Лебядкин…
— Същият този Лебядкин, нашият Лебядкин, да, помните ли го у Виргински?
— Но нали онзи беше загазил с фалшиви банкноти?
— Ето го че се върнал, почти от три седмици вече и при крайно особени обстоятелства.
— Ами че той е един негодник!
— Като че ли у нас не може да има негодници! — озъби се внезапно Липутин, опипвайки сякаш с крадливите си очички Степан Трофимович.
— Ах, боже мой, съвсем друго исках… макар впрочем относно негодниците да съм напълно съгласен именно с вас. — Е, а по-нататък, по-нататък? Какво искахте да кажете с това?… Защото вие непременно искате да кажете нещо с това!
— Ами, чисти глупости, значи… тоест този капитан, както излиза, си е заминал тогава не заради фалшивите пари, а единствено само за да открие тая си сестричка, а тя се била уж крила от него кой я знае къде; и на, че я доведе, туй е тя цялата история. Ама вие май като да се изплашихте, Степан Трофимович? Впрочем всичко това е все според каквито ги плещи на пияна глава, той като е трезвен, си трае за тия работи. Нервен човек и как да ви кажа — военноестетически, само че долен. А тая му, значи, сестричка е не само луда, ами и куца. Уж някой я прелъстил де, та по таз причина господин Лебядкин вече години наред вземал уж от прелъстителя ежегодна дан, един вид възнаграждение за благородната обида, тъй поне излиза според както дърдори, значи, но ако питате мен, пиянски приказки и нищо повече. Просто се хвали. Пък и тия работи се уреждат къде по-евтино. А че разполага с пари, разполага; допреди десетина дни гащи нямаше да обуе, а сега със стотарки си играе, с очите си го видях. Сестра му има някакви припадъци, всекидневни, тя пищи, а той я „свестява“ с нагайката. У жената, вика, трябва да се насажда уважение. Не мога да разбера как Шатов още търпи да живее над тях. Негова милост Алексей Нилич три дни не можа да ги изтрае и се изнесе в пристройката, а от Петербург още не знаели.
— Истина ли е всичко това? — обърна се Степан Трофимович към инженера.
— Много плещите, Липутин — измърмори оня гневно.
— Тайни, секрети! Откъде изведнъж се взеха у нас толкова тайни и секрети! — не можейки вече да се сдържи, викна Степан Трофимович.
Инженерът се намръщи, изчерви се, сви рамене и понечи да излезе от стаята.
— Негова милост Алексей Нилич дори му взе нагайката, значи, натроши я и я изхвърли през прозореца, и здравата се скараха, значи — прибави Липутин.
— Защо плещите, Липутин, глупаво е, защо? — пак се обърна за миг към него Алексей Нилич.
— Защо да крием от скромност най-благородните си душевни пориви, тоест за вашите пориви говоря, не за моите.
— Колко глупаво… и съвсем ненужно… Лебядкин е глупав и напълно празен, и безполезен за делото, и… напълно вреден. Защо плещите разни неща? Отивам си.
— Ах, колко жалко! — възкликна Липутин с лъчезарна усмивка. — Тъкмо щях да ви разсмея с една друга историйка, Степан Трофимович. Дори това ми беше намерението, като идвах, да ви разкажа, макар навярно вие вече да сте го чули. Ама хайде, друг път, Алексей Нилич толкова бърза… Довиждане, значи. За Варвара Петровна е думата, голям майтап беше оня ден — специално пратила да ме викат, просто да се скъсаш. Довиждане, значи.
Но сега вече Степан Трофимович просто се вкопчи в него; хвана го за раменете, насила го върна в стаята, натисна го да седне. Липутин дори се уплаши.
— Ами какво да ви кажа? — почна той без подканяне, зорко следейки Степан Трофимович от мястото си. — Викат ме, значи, най-внезапно и питат — „конфиденциално“, как мисля, значи, по собствена преценка: побъркан ли е Николай Всеволодович, или си е с всичкия? Ха де, не е ли да се чудиш и маеш?
— Вие сте полудели! — измърмори Степан Трофимович и най-внезапно избухна: — Вижте какво, Липутин, много добре го знаете, че само за това сте дошли, за да ми съобщите някаква подобна мръсотия и… нещо още по-лошо!
Моментално се сетих за съмнението му, че Липутин знае за нашите работи не само повече от нас, но и нещо друго, което ние никога няма да узнаем.
— Ама, моля ви се, Степан Трофимович! — мърмореше Липутин, уж че страшно изплашен. — Моля ви се…
— Мълчете и почвайте! Господин Кирилов, много ви моля да се върнете и да присъствате, много ви моля! Седнете. А вие, Липутин, почвайте направо, направо… и без ни най-малкото увъртане!
— Да знаех, че това тъй ще ви фрапира, хич да не бях започвал, значи… А пък аз си мислех, че сте вече известен за всичко от самата Варвара Петровна!
— Нищо подобно не сте си мислили! Започвайте, започвайте, чувате ли какво ви се казва!
— Само че бъдете тъй любезен да седнете и вие, защото, как тъй, значи, аз да седя, а вие, както сте изпаднали във вълнение, ще… подтичвате пред мене. Неудобно излиза.
Степан Трофимович се сдържа и внушително се отпусна в креслото. Инженерът мрачно заби поглед в земята. Липутин ги гледаше с необуздана наслада.
— Като как да започне човек… тъй ме сконфузихте, че…
VI
— Завчера най-внезапно пристига нейният човек: тъй и тъй, значи, с молба да сте там утре в дванайсет часа. Представяте ли си? Зарязвам всичко и вчера точ в точ по пладне звъня. Водят ме право в гостната; минута не мина — влиза нейна милост; седнете, вика, и самата тя сяда отсреща ми. Седя и не си вярвам; знаете как ме е третирала винаги! И направо без усукване, както й си е на нейна милост маниерата: „Нали помните, вика, че преди четири години, бидейки болен, Николай Всеволодович извърши няколко странни постъпки, тъй че целият град недоумяваше, докато всичко се изясни. Една от тия постъпки засягаше лично вас. Николай Всеволодович ви се обади тогава след оздравяването си, и по моя молба. Известно ми е също, че и преди това сте разговаряли няколко пъти с него. Кажете ми честно и откровено как… (тук се посмути малко) — как ви се видя тогава Николай Всеволодович… Как гледахте на него, изобщо… какво ви беше мнението, значи, и… какво е сега?…“
Тук вече напълно се смути, че дори цяла минута мълча и внезапно се изчерви. Аз дори се уплаших. И пак подхваща — не че трогателно, на нейна милост не й приляга, а тъй едно много внушително.
„Желанието ми, казва, е хубавичко и най-безпогрешно да ме разберете. Пратих да ви повикат, защото ви смятам за прозорлив и находчив човек, способен да си състави вярно мнение (какви комплименти само!). Вие, казва, разбирате, че с вас говори една майка… Николай Всеволодович е изпитал в живота някои нещастия и много превратности. Всичко това, казва, би могло да повлияе на умственото му състояние. Разбира се, казва, аз не говоря за умопобъркване, това не може да го бъде никога (твърдо и с гордост казано)! Но би могло да има нещо странно, особено, известен обрат в мислите, наклонност към един по-особено възглед (всичко това са точните думи на нейна милост и аз се почудих, Степан Трофимович, с каква точност умее да обяснява работата Варвара Петровна. Страшен ум е тая дама!). Аз, казва, съм забелязала у него известна постоянна тревога и един стремеж към по-особено държане. Но аз съм майка, а вие страничен човек, значи с вашия ум сте способен да си съставите по-независимо мнение. Умолявам ви най-сетне (точно тъй бе казано: умолявам) да ми кажете цялата истина, без всякакви заобикалки, и ако при това ми обещаете никога впоследствие да не забравяте, че разговорът ни е конфиденциален, занапред може да разчитате на моята пълна и постоянна готовност да ви се отплатя при всяка възможност.“ Как ви се струва, а!
— Вие… вие така ме фрапирахме — изфъфли Степан Трофимович, — че не ви вярвам…
— Не, ама вие вижте другото — поде Липутин, сякаш не беше чул Степан Трофимович, — какво вълнение и безпокойство ще да е било, щом от такива висоти се обръщат с такъв въпрос към човек като мене, че на туй отгоре благоволяват да ме молят да запазя тайната. Какво е това, значи? Дали не са получени някакви неочаквани, значи, вести от Николай Всеволодович, а?
— Не зная… никакви вести… няколко дни не сме се виждали, но… но ще ви кажа, че… — фъфлеше Степан Трофимович, който явно едва свързваше мислите си, — ще ви кажа, Липутин, че щом ви е казано конфиденциално, а вие тук пред всички…
— Напълно конфиденциално! Да ме убие господ, ако аз… А пък нали тук… какво толкоз де? Да не сме чужди я, та макар и Алексей Нилич да вземем!
— Аз не споделям този ви възглед; ние тримата тук несъмнено ще запазим тайната, но от вас, четвъртия, се боя и не ви вярвам в нищо!
— Че защо тъй, значи? Че аз най-вече съм заинтересован, че нали вечна признателност ми е обещана! А пък аз исках тъкмо по същия тоя повод да ви изтъкна един извънредно странен случай, повече, тъй да се каже, психологически, отколкото просто странен. Снощи, под влиянието на разговора с Варвара Петровна (можете да си представите какво впечатление ми беше направил), ей тъй, между другото, се обръщам към Алексей Нилич с въпроса: вие, казвам, и в странство, и преди това в Петербург сте се знаели с Николай Всеволодович; как го намирате, казвам, относно ума и способностите? Негова милост ми отговаря, значи, ей тъй, лаконично, както си му е маниерът, че тъй и тъй, значи, с тънък ум и здрав разум бил човекът. А не сте ли забелязали в течение на годините, казвам, известно, да го речем, отклонение, тъй да се каже, от идеите или особен обрат на мислите, или известно, да го речем, умопомрачение? С една дума, повтарям въпроса на самата Варвара Петровна и, представете си, Алексей Нилич изведнъж се замисля, мръщи нос точ в точ като сега. „Да, казва, понякога ми се е виждало нещо странно.“ При това обърнете внимание, че щом на Алексей Нилич е могло да му се види странно, какво ли може да излезе всъщност, а?
— Вярно ли е? — обърна се Степан Трофимович към Алексей Нилич.
— Аз бих желал да не говоря за това — отвърна Алексей Нилич, вдигайки изведнъж глава и святкайки с очи, — искам да оспоря правото ви, Липутин! Вие нямате никакво право в моя случай. Аз съвсем не съм казвал цялото си мнение. Макар да бяхме познати в Петербург, това е старо, а сега, макар и да се срещнахме, но много малко познавам Николай Ставрогин. Аз моля, не ме замесвайте и… всичко туй прилича на клюка.
Липутин разпери ръце с израз на оскърбена ненавист.
— Клюкар! Че защо не шпионин? Лесно ви е на вас, Алексей Нилич, да критикувате, когато самият вие от всичко се отдръпвате. А вие, Степан Трофимович, няма да повярвате, значи, че дори капитан Лебядкин, дето е глупав като… тоест направо е срамота да се каже колко е глупав; има едно такова руско сравнение, означаващо степен; ама и той се брои за обиден от Николай Всеволодович, макар и да се прекланя пред ума му. „Поразен съм, казва, от тоя човек: премъдър змей“ (собствените му думи). А аз (все под влияние на вчерашното и вече след разговора с Алексей Нилич): „Я кажете, викам, капитане, как ви се вижда на вас, побъркан ли е тоя, вашият змей, или не?“ Ще повярвате ли, сякаш го шибнах по едното място с камшик; просто подскочи. „Да, казва… да, казва, само че това, казва, не може да повлияе…“; на какво да било повлияло, не доизрече; пък после тъй печално се замисли, тъй се замисли, че чак изтрезня. Във Филиповския трактир седяхме, значи. И чак след половин час комай изведнъж тресна с юмрук по масата. „Да, казва, не е с всичкия си, види се, само че това не може да повлияе…“, и пак се не доизказа на какво да било повлияло. Аз, разбира се, само екстракта на разговора ви предавам, ама мисълта е ясна; когото и да попиташ, на всеки едно му идва на ума, макар по-рано никой да го не е мислил: „Да, казват, побъркан е; много е умен, но може и да е побъркан.“
Степан Трофимович седеше замислено и усилено разсъждаваше.
— А откъде пък знае Лебядкин?
— По тоя въпрос бъдете тъй любезен да се обърнете към Алексей Нилич, който току-що ме нарече шпионин. Аз съм шпионин — ама не зная, а пък негова милост Алексей Нилич цялата работа отвътре я знае, ама си мълчи, значи.
— Не зная нищо, или малко — пак тъй нервно отвърна инженерът, — вие поите Лебядкин, щото да изкопчвате. И мен доведохте сега, за да изкопчите и щото и аз да кажа. Ще рече, вие сте шпионин!
— Още не съм го поил, ваша милост. Пък и пет пари не давам за всичките му тайни, дето ей толкова не ме е еня за тях, не знам как е за вас. Напротив, той е, дето ръси парите, а само преди дванайсет деня идва да ме врънка за петнайсет копейки, и той беше, дето ме поеше с шампанско, а не аз него. Но вие хубаво ме подсетихте и ако дотрябва, и аз ще го напоя, и именно за да разузная, и може и да разузная, ваша милост… всичките ви тайнички, значи — злобно се озъби Липутин.
Степан Трофимович с недоумение гледаше двамата спорещи. И двамата сами се издаваха и главно не се церемонеха. Мина ми през ума, че Липутин е довел при нас този Алексей Нилич именно с целта да го въвлече в нужния разговор чрез трето лице, любимата му маневра.
— Алексей Нилич твърде добре се знае с Николай Всеволодович — раздразнено продължаваше той, — само че крие, значи. А дето питате относно капитан Лебядкин, той преди всички нас се е запознал с него в Петербург, преди пет или шест години, през оная малко позната, ако може да се каже така, епоха от живота на Николай Всеволодович, когато и наум не му е минавало да ни ощастливи с присъствието си. Налага се заключението, че тогава нашият принц е имал твърде странен кръг от познати. Май тогава са се запознали и с Алексей Нилич.
— Внимавайте, Липутин, предупреждавам ви, че Николай Всеволодович в най-скоро време искаше да бъде тук, а той е от ония, дето не прощават.
— На мен пък защо? Аз съм първият, дето го разтръбява, че е човек с най-тънък и най-изящен ум, и вчера напълно успокоих самата Варвара Петровна тъкмо в този смисъл. „Виж, за характера му, казвам й, не гарантирам.“ Вчера и Лебядкин — досущ същото. „От характера му, казва, си изпатих.“ Ех, Степан Трофимович, лесно ви е на вас да викате: клюки, шпионство, ама обърнете внимание — едва след като измъкнахте всичко от мене, при това с какво любопитство! А пък Варвара Петровна, тя вчера направо си го каза. „Вие, казва, бяхте лично засегнат, затова се обръщам към вас.“ То пък останало да не съм! Какви ми ти цели, когато такава обида преглътнах от негово превъзходителство! Ще рече, имам причини да се интересувам, а не само заради клюката. Днес ти стиска ръката, а утре ни в клин, ни в ръкав те прави за резил пред хората, хем на масата ти седи, и щото му било скимнало. От слободия! А най-главното му е женският пол: хврък-прехврък, скок-подскок! Помешчици с крилца като у древните амури. Печорини-сърцеядци! Лесно ви е на вас, заклетия ерген, Степан Трофимович, да говорите и заради тяхно превъзходителство на клюкар да ме правите. Ама я да се ожените, щото и сега сте си още като момче, за някоя хубавичка и младичка — вратата си ще залостите, барикади ще вдигнете в къщата си от нашия принц! И да ви кажа ли: де да не беше тая mademoiselle Лебядкина, дето я налагат с камшика, луда и кьопава, бога ми, щях да помисля, че баш тя е жертва на страстите на нашия генерал и че тъкмо от него е пострадала „фамилната чест“ на капитан Лебядкин, както се изразява той. Само дето не отговаря на изящния вкус на тяхна милост, ама на тях и това не им пречи. Всяко зрънце му върши работа, стига да се улучи съответното настроение. Вие викате — клюки, ама мигар аз съм тръгнал да разтръбяван — целият град е гръмнал, аз само слушам и викам „тъй е“, забранено ли е да викаш „тъй е“?
— Градът бил гръмнал? От какво е гръмнал градът?
— Ами онзи пияница капитан Лебядкин крещи на всеослушание, а пък то е все едно, че гръмнал площадът. Какво съм крив аз? Аз се интересувам, значи, само между приятелите, защото все пак се чувствам тук сред приятели, значи — хвърли ни той по един невинен поглед. — Станала е, значи, една работа, сами съдете: излиза, че тяхно превъзходителство уж че пратил още от Швейцария по една в най-висша степен благородна госпожица и, тъй да се каже, скромна сирота, която аз имам честта да познавам, триста рубли, които да се предадели на капитан Лебядкин. А малко по-късно Лебядкин получава най-точно известие, не казвам от кого, но също от лице в най-висша степен благородно, и, ще рече — най-достоверно, че не триста, а хиляда рубли били пратени! Ще рече, вика Лебядкин, че тая госпожица ми е задигнала седемстотинтях рубли, и възнамерявал, значи, да си ги изиска едва ли не по канален ред, във всеки случай заплашва и по целия град го разправя…
— Това е подло, подло! — скочи изведнъж инженерът от стола си.
— Че нали вие самият сте това в най-висша степен благородно лице, което потвърди на Лебядкин от името на Николай Всеволодович, че не триста, а хиляда рубли са били изпратени. Самият капитан ми го съобщи в пияно състояние.
— Това е… това е нещастно стечение. Някой е объркал и излиза… Това са глупости, а вие най-подло!…
— И на мен ми се иска да вярвам, че са глупости, и с прискърбие слушам, защото, както щете, но е замесена една най-благородна госпожица, първо, с тия седемстотин рубли и, второ, в очевидни интимности с Николай Всеволодович. Колко му е на негово превъзходителство да осрами едно най-благородно момиче или някоя чужда жена да изложи подобно на оня казус, дето стана с мене? Все ще им падне някой изпълнен с великодушие човек и ще го накарат да прикрие с честното си име чуждите грехове. Нали и с мен тъй стана; за себе си говоря…
— Внимавайте, Липутин! — стана от креслото си Степан Трофимович и пребледня.
— Не вярвайте, не вярвайте! Някой е сбъркал, а Лебядкин е бил пиян… — викаше инженерът в неописуемо вълнение, — всичко ще се разясни, а аз повече не мога… и смятам за низост… стига, стига!
Той изхвръкна от стаята.
— Какво току-тъй? Нали сме заедно! — сепна се Липутин, скочи и хукна подир Алексей Нилич.
VII
Степан Трофимович се замисли за минута, постоя, погледна ме някак без да ме вижда, взе си бастуна, шапката и полека излезе от стаята. Аз пак подире му, както и одеве. Излизайки от пътната врата, забеляза, че го следвам, и каза:
— Ах, да, вие можете да ми станете свидетел… de l’accident. Vous m’accompagnerez, n’est-ce pas?[17]
— Степан Трофимович, нима наистина пак там? Помислете си само, каква може да стане?
С жалка и смутена усмивка — усмивка на срам и пълно отчаяние и същевременно на някакъв странен възторг — той се спря за миг и ми прошепна:
— Не мога да се женя за „чужди грехове“!
Аз само това чаках, тия думи. Най-сетне, след цяла седмица извъртания и преструвки, тия заветни, грижливо скривани от мен думици бяха произнесени. Аз направо кипнах:
— Значи, тази мръсна, тази… долна мисъл е могла да се зароди у вас, у Степан Верховенски, във вашия ясен ум, в доброто ви сърце и… още преди Липутин!
Той ме погледна, не отговори и продължи нататък. Не исках да оставам настрана. Исках да кажа истината на Варвара Петровна. Бих му простил, ако всичко беше, защото поради бебешкото си малодушие е повярвал на Липутин, но сега се разбра, че сам си е измислил всичко много преди Липутин, а одеве Липутин само е потвърдил подозренията му и е налял масло в огъня. Не се беше посвенил да заподозре момичето още от първия ден, без да има никакви основания, дори тия на Липутин. И си беше обяснил деспотичните действия на Варвара Петровна единствено с отчаяното й желание час по-скоро да замаже чрез сватба с един почтен човек дворянските греховце на своя безценен Nicolas! Искаше ми се Степан Трофимович непременно да бъде наказан за това.
— О! Dieu qui est si grand et si bon![18] О, кой ще ме утеши? — извика той, изминавайки още стотина крачки, и внезапно спря.
— Хайде да се върнем у вас, всичко ще ви обясня! — викнах аз, повличайки го насила към дома му.
— Това е той! Степан Трофимович, вие ли сте? Вие? — раздаде се край нас като някаква музика един свеж, игрив, младежки глас.
Докато се озъртахме, край нас внезапно се появи ездачка — Лизавета Николаевна, със своя вечен придружител. Тя спря коня си.
— Елате, по-скоро елате де! — викаше тя звънко и весело. — Дванайсет години не съм го виждала и го познах, а той… Нима наистина не можете да ме познаете?
Степан Трофимович улови протегнатата й ръка и благоговейно я целуна. Гледаше я някак молитвено и не можеше да промълви дума.
— Позна ме и се радва! Маврикий Николаевич, той е във възторг, че ме вижда! Цели две седмици да не дойдете, защо? Леля казва, бил сте болен и не бивало да ви безпокоим; ама аз си знаех, че леля лъже. Ох, че тропах с крак и как ли не ви хоках, ама непременно, непременно исках вие пръв да дойдете и затова не пратих никого. Боже, ами че той никак не се е променил! — разглеждаше го тя, навеждайки се от седлото. — Чак е смешно толкова да не се е променил. А, не, има бръчици, много бръчици край очите и по бузите, и бели коси има, но очите са все тия! Ами аз — променила ли съм се? Променила ли съм се? Какво е това от вас, защо мълчите?
В тоя миг си спомних, че разправяха, дето била май болна, когато единайсетгодишна я отвели в Петербург, и като боледувала, била уж плакала и търсела Степан Трофимович.
— Вие… аз… — бъбреше той със задавен от радост глас — аз току-що извиках: „Кой ще ме утеши!“ — и се раздаде вашият глас… Аз мисля, че това е чудо et je commence a croire.[19]
— En Dieu? En Dieu, qui est la’haut et qui est si grand et si bon?[20] Виждате ли, всичките ви лекции помня наизуст. Маврикий Николаевич, каква вяра ми преподаваше той тогава — en Dieu, qui est si grand et si bon! Ами помните ли, като разказвахте как Колумб открил Америка и как всички се развикали: „Земя, земя!“ Моята бавачка, Альона Фроловна[21], казва, че после през нощта съм била бълнувала и съм викала насън: „Земя, земя!“ А помните ли, като ми разправяхте историята на принц Хамлет? А помните ли, като ми описвахте как карали от Европа за Америка горките емигранти? А то не е било така, после научих как са ги карали, но колко хубаво ме лъжеше тогава той, Маврикий Николаевич, беше почти по-хубаво от истината! Какво гледате така, Маврикий Николаевич? Това е най-добрият, най-верният човек на цялото земно кълбо и непременно трябва да го обикнете като мене. Il fait tout ce que je veux[22]. Но, мили мой Степан Трофимович, значи пак сте нещастен, щом насред улицата се питате кой щял да ви утеши? Нещастен сте, нали? Нали?
— Сега съм щастлив…
— Леля ви тормози, а? — продължи тя, без да слуша. — Ах, тая лоша, несправедлива и вечно скъпоценна наша леля! Ами помните ли в градината, като се хвърляхте в прегръдките ми, а пък аз ви утешавах и плачех — е, не се стеснявайте от Маврикий Николаевич де; той отдавна знае за вас всичко, всичко и може да му се изплаквате колкото си щете, а той колкото си щете ще стои… Повдигнете си малко шапката, само за малко; я си дайте главата, застанете на пръсти, сега ще ви целуна по челото, както ви целунах последния път, като се сбогувахме. Виждате ли, онази госпожица от прозореца ни се любува… По-близо, по-близо де. Боже, колко е побелял!
И тя се наведе от коня и го целуна по челото.
— А сега у вас! Аз знам къде живеете. Ей сегичка, след минутка съм у вас. Първа ще ви дойда на гости, упорити човече, и после за цял ден ви отмъквам у нас. Хайде, пригответе се да ме посрещнете.
И препусна заедно с кавалера си. Ние се върнахме. Степан Трофимович седна на дивана и заплака.
— Dieu, Dieu! — викаше той. — Enfin une minute de bonheur![23]
След не повече от десет минути тя, съгласно обещанието си, се появи, придружена от своя Маврикий Николаевич.
— Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps![24] — стана да я посрещне той.
— Ето ви букет; ей сега бях при madame Шевалие, тя през цялата зима ще има букети за именниците. Ето ви го и Маврикий Николаевич, запознайте се, моля. Исках торта вместо букет, но Маврикий Николаевич твърди, че не било по руски.
Този Маврикий Николаевич беше артилерийски капитан, около тридесет и три годишен висок господин, с красив и безупречно порядъчен външен вид, с внушителна и на пръв поглед дори строга физиономия въпреки своето удивително деликатно добродушие, за което всеки получаваше представа едва ли не от първия миг на запознанството си с него. Беше впрочем мълчалив, изглеждаше много хладнокръвен и не се натрапваше с приятелството си. По-късно мнозина у нас казваха, че бил глуповат; това не беше съвсем справедливо.
Няма да описвам красотата на Лизавета Николаевна. Целият град приказваше за красотата й, макар някои наши дами и госпожици да отхвърляха с негодувание тези приказки. Имаше сред тях дори такива, които вече мразеха Лизавета Николаевна, най-напред заради големството: Дроздови още не бяха тръгнали по визити, което беше оскърбително, макар причината за забавянето наистина да беше неразположението на Прасковя Ивановна. На второ място я мразеха, задето е роднина на губернаторшата; на трето — за това, че всеки ден излизаше да язди. Дотогава у нас нямаше амазонки; естествено, че появата на Лизавета Николаевна, която се разхожда с коня си, а все още не тръгва по визити, трябваше да оскърби обществото. Впрочем всички вече знаеха, че тая езда е по нареждане на докторите, при което жлъчно подмятаха, че била болнава. Тя действително беше болна. Това, което биеше на очи от пръв поглед, бе нейната болезнена, нервна, постоянна тревога. Уви! Много бе страдала бедната и всичко стана ясно едва впоследствие. Сега, гледайки назад, вече не ще кажа, че бе красавица, както ми се струваше тогава. Беше може би дори грозновата. Висока, тънка, но гъвкава и силна, тя дори поразяваше с неправилните си черти. Очите й бяха някак по калмикски дръпнати, стояха косо; беше бледа и скулеста, мургава и с мършаво лице; но в това лице имаше нещо, което покоряваше и привличаше! Някакво могъщество прозираше в пламналия поглед на тъмните очи; явяваше се „като победителка и за да победи“. Изглеждаше горделива, а понякога дори и дръзка; не знам дали съумяваше да е добра; но знам, че ужасно го искаше и се измъчваше, заставяйки се да бъде мъничко добра. Тази натура, разбира се, беше пълна с прекрасни стремежи и най-справедливи почини; но всичко у нея сякаш вечно търсеше своята мярка и не я намираше, всичко бе хаос, вълнение и тревога. А може би си поставяше твърде строги изисквания и не намираше сили да им отговори. Тя седна на дивана и взе да оглежда стаята.
— Защо в такива моменти винаги ми става тъжно, отгатнете, учени човече! Цял живот съм си мислела, че господ знае колко ще се радвам, като ви видя и си спомня всичко, а ето че сякаш изобщо не се радвам, въпреки че ви обичам… Ах, боже, той има портрета ми! Дайте го тук, аз го помня, помня го!
Този превъзходен миниатюрен акварелен портрет на дванайсетгодишната Лиза Дроздов й бяха пратили на Степан Трофимович от Петербург още преди девет години. Оттогава той постоянно стоеше на стената.
— Нима наистина съм била такова хубаво дете? Нима наистина това е моето лице?
Тя стана и с портрета в ръка се погледна в огледалото.
— Хайде, вземете си го! — възкликна тя, като му даваше портрета. — И не го окачвайте сега, после, не ща да го гледам дори. — Тя отново седна на дивана. — Един живот отмина, започна друг, после отмина и другият — започна трети, и всеки път без край, сякаш всички краища някой ги изрязва с ножица. Виждате ли какви стари работи разправям, ама пък колко верни!
Тя се засмя и ме погледна; вече няколко пъти ме поглеждаше, но във вълнението си Степан Трофимович дори забрави, че беше обещал да ме представи.
— А защо сте окачили портрета ми под кинжалите? И защо ви са толкова кинжали и саби?
На стената му наистина, не знам защо, висяха накръст два ятагана, а над тях една истинска черкезка шашка. Задавайки въпроса, тя ми отправи такъв пряк поглед, че насмалко да й отговоря нещо, но се сдържах. Степан Трофимович най-после се сети да ме представи.
— Знам, знам — каза тя, — много се радвам. Мама също много е чувала за вас. Запознайте се и с Маврикий Николаевич, той е един прекрасен човек. Аз вече си имам една смешна представа за вас: нали вие сте конфидентът на Степан Трофимович?
Аз се изчервих.
— Ах, извинете, моля, съвсем друга дума исках да кажа; съвсем не смешна, а такава… (Изчерви се и се сконфузи.) Впрочем, защо ще се срамувате, че сте един прекрасен човек? Хайде, Маврикий Николаевич, време ни е! Степан Трофимович, след половин час да сте у нас. Боже, колко има да си говорим! Сега вече аз съм ви конфидентът, и за всичко, за всичко, разбрахте ли ме?
Степан Трофимович моментално се изплаши.
— О, Маврикий Николаевич знае всичко, не се стеснявайте от него!
— Какво знае?
— Хубава работа! — извика тя изненадано. — Ох, ама те вярно, че криели! Мен пък не ми се вярваше. Даша също я крият. Вчера леля не ме пусна при Даша, каза, че я боляла глава.
— Но… как сте го научили?
— Ах, боже мой, така, както всички. То голяма философия!
— Ама мигар всички?…
— Ами че как? Вярно, че маман го научи първо от Альона Фроловна, моята бавачка; на нея пък вашата Настася дотърчала да й съобщи. Нали сте казали на Настася? Тя казва, че самият вие сте й казали.
— Аз… аз казах веднъж… — смотолеви Степан Трофимович и цял се изчерви — но… аз само намекнах… j’étais si nerveux et malade et puis…[25]
Тя се разсмя.
— А конфидента в момента да го няма, пък Настася да вземе да се случи подръка — какво да прави човек! А на нея целият град са й кумици! Хайде, хайде, не е ли все едно; ами да знаят пък, даже е по-добре. По-скоро идвайте, ние рано обядваме… Да, забравих — отново седна тя, — я кажете, какъв е този Шатов?
— Шатов? Това е братът на Даря Павловна…
— Зная, че й е брат, какъв сте, ей богу! — прекъсна го тя нетърпеливо. — Искам да зная какво представлява, що за човек е той?
— C’est un pense-creux d’isi. C’est le meilleur et le plus irasciable homme du monde…[26]
— И аз съм чувала, че бил малко особен. Впрочем имах предвид друго. Чух, че знаел три езика, и английски, и го бивало за литературна работа. В такъв случай аз имам работа за него: нужен ми е помощник и колкото по-скоро, толкова по-добре. Ще приеме ли работата, или не? На мен ми го препоръчаха…
— О, непременно, et vous fairez un bienfait…[27]
— Аз не заради bienfait, на самата мен ми е нужен помощник.
— Доста добре се зная с Шатов — казах аз — и ако ме натоварите да му съобщя, още сега отивам.
— Съобщете му да дойде утре в дванайсет часа. Чудесно! Благодаря ви. Маврикий Николаевич, готов ли сте?
Те си отидоха. Аз, разбира се, веднага хукнах към Шатов.
— Mon ami[28] — настигна ме на изхода Степан Трофимович, — непременно да сте тук в десет или единайсет, когато се върна. О, аз съм много, много съм виновен пред вас и… пред всички, пред всички.
VIII
Не заварих Шатов вкъщи; отскочих след два часа — пак го няма. Накрая, вече към осем, пак тръгнах натам — или да го намеря, или да му оставя бележка; пак не го заварих. Жилището му беше заключено, а той живееше сам, без всякаква прислуга. Дойде ми наум да се навра долу и да питам за Шатов у капитан Лебядкин; но там също беше заключено и нито звук, нито светлинка, същинска пустош. С любопитство минах край вратата на Лебядкин под влияние на одевешните приказки. В края на краищата реших да мина утре по-рано. Право да си кажа, не разчитах твърде на бележката; Шатов можеше да я пренебрегне, беше хем инат, хем стеснителен. Проклинайки късмета си и вече на пътната врата, внезапно се натъкнах на господин Кирилов: той тъкмо влизаше и пръв ме позна. Тъй като самият той взе да ме разпитва, му разказах всичко в общи черти, казах му, че съм написал и бележка.
— Елате — каза той, — ще я наредим.
Спомних си, че по думите на Липутин той се бе нанесъл от сутринта в дървената пристройка на двора. В тази пристройка, твърде просторна за него, живееше и някаква стара, глуха жена, която му прислужваше. Стопанинът на къщата държеше трактир в другата си, съвсем нова къща и на съвсем друга улица, а тази бабичка, май негова роднина, беше останала да надзирава цялата стара къща. Стаите в пристройката бяха доста чисти, но тапетите — мръсни. В тази, в която влязохме, мебелите бяха събрани оттук-оттам, разнокалибрени и направо за бракуване: две маси за карти, чамов скрин, голяма дъсчена маса от някаква селска къща или кухня, столове и диван с мрежеста облегалка и корави кожени седалки. В ъгъла имаше старинна икона, пред която жената беше запалила кандилото още преди да дойдем, а на стената висяха два големи, потъмнели маслени портрета: единият на покойния император Николай Павлович, правен, съдейки по вида, още през двайсетте години на века; другият изобразяваше някакъв архиерей.
Господин Кирилов с влизането запали свещ и извади от куфара си, който стоеше в ъгъла, още неразопаковани плик, червен восък и кристално печатче.
— Запечатайте бележката си и надпишете плика.
Опитах се да възразя, че не е нужно, но той настоя. Надписах плика и си взех фуражката.
— Аз пък мислех — на чай — каза той, — чай съм купил. Искате ли?
Не се отказах. Жената скоро внесе чая, тоест един грамаден чайник с вряла вода, малко чайниче със силна запарка, две големи глинени, грубо изписани чаши, симид и цяла купчина натрошена захар.
— Обичам чай — каза той, — нощем много, ходя и пия до разсъмване. В странство е неудобно нощем чай.
— На разсъмване ли си лягате?
— Винаги, отдавна. Аз малко ям: все чай. Липутин е хитър, но нетърпелив.
Учуди ме, че искаше да разговаря: реших да се възползвам от случая.
— Одеве станаха неприятни недоразумения — забелязах аз. Той силно се навъси.
— Това са глупости; голяма дивотия, всичко туй е дивотия, защото Лебядкин е пиян. На Липутин не съм казвал, а само обясних дивотията; защото той изопачава. Липутин много фантазира, от тая дивотия планина направи. Вчера вярвах на Липутин.
— А днес на мен? — засмях се аз.
— Та вие от одеве вече всичко знаете. Липутин е или слаб, или нетърпелив, или лош, или… завижда.
Последната думичка ме порази.
— Впрочем вие толкова категории изредихте, че не е чудно и да влезе в някоя.
— Или във всички наведнъж.
— Да, и това е вярно. Липутин е хаос! Нали одеве излъга, че искате да пишете някакво съчинение?
— Защо да излъга? — пак се навъси той и заби поглед в земята.
Извиних се и взех да го уверявам, че не подпитвам. Той се изчерви.
— Той каза истината: пиша. Само че това няма значение.
Помълчахме малко; внезапно той се усмихна с одевешната си детска усмивка.
— Това за главите сам си го е измислил, от книгите, и отначало самият той го казваше, и нищо не разбира, пък аз търся причините — защо хората не смеят да се самоубиват; това е всичко. И това няма значение.
— Как да не смеят? Малко ли са самоубийствата?
— Много малко.
— Наистина ли смятате тъй?
Той не отговори, стана и замислено взе да ходи напред-назад.
— Според вас какво възпира хората от самоубийство? — попитах аз.
Той ме погледна разсеяно, сякаш искаше да си спомни за какво говорехме.
— Аз… аз още малко зная… два предразсъдъка ги спират, две неща, само две; едното — много малко, другото — много голямо. Но и малкото също е голямо.
— Е кое е малкото?
— Болката.
— Болката? Нима това е толкова важно… в случая?
— Едно на ръка. Има два вида: едни се самоубиват или от голяма мъка, или от яд, или са луди, или пък им е омръзнало… тия изведнъж. Тия малко мислят за болката, ами изведнъж. А тия, дето обмислено — много мислят.
— Че мигар има такива, дето обмислено?
— Твърде много. Да нямаше предразсъдъци, щяха да са повече: много-много; всички.
— Чак пък всички?
Той си замълча.
— Представете си — спря се той пред мен, — представете си камък — толкова голям, колкото голяма къща; той виси, а вие сте под него; ако падне върху вас, на главата — ще боли ли?
— Камък колкото къща? Разбира се, че е страшно.
— Не за страха; ще боли ли?
— Камък като планина, милион пуда? Разбира се, че няма да боли.
— Ако наистина застанете и докато виси, много ще ви е страх, че ще боли. Всеки — пръв учен, пръв доктор, всеки, всеки много ще го е страх. Всеки ще знае, че няма да боли, и всеки много ще го е страх, че ще боли.
— Ами втората причина, голямата?
— Онзи свят.
— Тоест наказанието?
— Това е все едно. Онзи свят; просто онзи свят.
— Нима няма атеисти, които не вярват в онзи свят?
Той пак си замълча.
— Може би съдите по себе си?
— Всеки не може да съди като мене — каза той и се изчерви. — Свободата ще я имаш, когато ти е все едно живееш или не живееш. Това е целта на всичко.
— Целта? Че тогава може никой да не поиска да живее?
— Никой — произнесе той решително.
— Човекът се бои от смъртта, защото обича живота, тъй го разбирам аз — казах, — и тъй е наредила природата.
— Това е подло и тук е цялата измама! — очите му засвяткаха. — Животът е болка, животът е страх и човекът е нещастен. Сега всичко е болка и страх. Сега човекът обича живота, защото обича болката и страха. Тъй е направен. Животът се дава сега срещу болка и страх и тук е цялата измама. Днес човекът не е онзи човек. Ще има нов човек, щастлив и горд. На когото му е безразлично живее или не живее, той ще бъде нов човек. Който победи болката и страха, той ще бъде бог. А онзи бог няма да го има.
— Излиза, че според вас онзи бог го има?
— Няма го, но той е тук. В камъка няма болка, но страхът от камъка е болка. Бог е болката от страха пред смъртта. Който победи болката и страха — той ще стане бог. Тогава — нов живот, тогава — нов човек, всичко ново… Тогава историята ще я делят на две части: от горилата до унищожението на бога и от унищожението на бога до…
— До горилата?
— … до изменението на земята и човека физически. Ще стане бог човекът и ще се измени и физически. И светът ще се измени, и делата ще се изменят, и мислите, и всички чувства. Как мислите, ще се измени ли тогава човекът физически?
— Ако стане безразлично живеем или не живеем, всички ще се самоубият и може би в това ще бъде промяната.
— Това е все едно. Лъжата ще убият. Всеки, който иска истинска свобода, е длъжен да посмее да убие себе си. Който посмее да убие себе си, той е научил на лъжата тайната. Оттук нататък няма свобода; тук е всичко, оттук нататък няма нищо. Който посмее да се убие, е бог. Сега всеки може да направи, че да няма бог и че да няма нищо. Но никой още нито веднъж не е направил.
— Милиони самоубийци е имало.
— Но все не за това, все със страх и не за това. Не за да убият страха. Който убие себе си само за да убие страха, той тутакси ще стане бог.
— Няма да свари може би — забелязах аз.
— Все едно — отвърна той с една спокойна гордост, едва ли не с презрение. — Жалко, че май се смеете — прибави той след половин минута.
— А на мен ми се вижда странно, че одеве бяхте толкова изнервен, а сега сте толкова спокоен, макар и да говорите пламенно.
— Одеве? Одеве беше смешно — отвърна той с усмивка, — не обичам да навиквам и никога не се смея — прибави той тъжно.
— Да, не са весели вашите нощи с чая — станах и си взех фуражката.
— Мислите ли? — усмихна се той с известно учудване. — Защо? Не, аз… аз не знам — смути се той изведнъж, — не знам как е у другите, и аз го чувствам, че не мога като всеки. Всеки мисли едно и после веднага друго. Аз не мога друго, цял живот едно. Цял живот ме измъчва богът — завърши той внезапно с една удивителна експанзивност.
— Да ви запитам, ако позволите, разбира се, защо говорите малко неправилно по руски? Нима за пет години в странство сте се разучили?
— Мигар неправилно? Не знам. Не, не защото странство. Аз цял живот говоря тъй… все ми е едно.
— Още един въпрос, по-деликатен: напълно ви вярвам, че не сте склонен да се срещате с хора и малко приказвате с хора. Защо се разприказвахте сега с мен?
— С вас ли? Вие одеве седяхте хубаво и вие… впрочем все едно… вие много приличате на брат ми, много, изключително — каза той, изчервявайки се, — седем години е умрял; по-голям много, много, много.
— Сигурно е имал голямо влияние върху начина ви на мислене?
— Н-не, той малко говореше; той нищо не говореше. Ще дам вашата бележка.
Изпрати ме с фенер до входната врата, за да затвори подире ми. „Разбира се — луд“ — реших аз за себе си. На вратата стана нова среща.
IX
Едва стъпих на високия праг на портичката, когато внезапно нечия силна ръка ме сграбчи за гърдите.
— Кой беше ти? — ревна нечий глас. — Приятел или враг? Покай се!
— Наш е, наш! — изврещя гласчето на Липутин. — Господин Г-в, младеж с класическо възпитание и връзки в най-доброто общество.
— Обичам, щом, значи, с обществото, клас-с-си-чес… значи, високооб-разов-ван… бившият капитан Игнат Лебядкин винаги на услугите на света и приятелите… ако са верни, ако са верни, подлеците му ниедни!
Капитан Лебядкин, без малко два метра на ръст, пълен, месест, къдрокос, червендалест и невероятно пиян, едва стоеше пред мен и с мъка изговаряше думите. Аз впрочем и по-преди го бях виждал отдалеч.
— А, и тоя! — ревна той пак, забелязвайки Кирилов, който все още не си отиваше със своя фенер; понечи да вдигне юмрук, но тутакси отпусна ръка.
— Прощавам, защото е учено! Игнат Лебядкин — най-високо-образ-з-ованият…
От любов изгаряща граната,
пръсна се в гърдите на Игната.
И зарида като в некропол
безръкият от Севастопол…
Макар да не съм бил в Севастопол[29] и безрък не съм дори, но каква рима, а! — навираше ми се той с пияната си мутра.
— Негова милост бърза, бърза, вкъщи си отива — придумваше го Липутин, — утре ще разкаже на Лизавета Николаевна.
— На Лизавета!… — пак ревна той. — Стой — не мърдай! Вариант:
Сред амазонки цял букет,
трепти като звезда на коня,
усмивки праща ми безчет
ари-сто-кратичната мадона.
„На звездата-амазонка“. Че това е цял химн бе! Цял химн, ако не си магаре! Некадърниците не разбират! Стой! — вкопчи се той в палтото ми, макар да се дърпах с всички сили навън. — Кажи й, че аз съм рицар на честта, а Дашка… Дашка аз с двата си пръста… крепостната робиня, и да не е посмяла…
И падна, защото се изтръгнах със сила от ръцете му и хукнах по улицата, Липутин се лепна за мен.
— Алексей Нилич ще го вдигне. Знаете ли какво научих сега от него? — дърдореше той задъхано. — Стихчетата нали ги чухте? Ей тия стихчета „На звездата-амазонка“ ги сложил в плик и утре ги праща на Лизавета Николаевна с пълния си подпис. Бива си го, а?
— Бас държа, че вие сте го подучили.
— Ще изгубите! — захили се Липутин. — Влюбен е, влюбен е като котка, а пък знаете ли, всичко почна с омраза. Отначало дотам бе намразил Лизавета Николаевна, дето яздела кон, че само дето не я псуваше на улицата; веднъж дори я напсува! Завчера, като минаваше, я напсува — тя за щастие не чу, а днес, не щеш ли — стихове! Знаете ли, че е решил да й направи предложение? Сериозно, сериозно!
— Чудя ви се, Липутин, навсякъде все вие, стане ли такава някоя мръсотийка, все вие сте на дъното! — казах аз с досада.
— Вие обаче отивате твърде далеч, господин Г-в; дали пък не ви е трепнало сърчицето от страх пред съперника, а?
— Какво-о-о? — креснах аз и се спрях.
— Аз пък за наказание нищо повече няма да ви кажа! А ви се ще да чуете, нали? Макар това, че тоя щурчо не е вече прост капитан, ами помешчик от нашата губерния, хем твърде значителен, защото от ония дни Николай Всеволодович му продал имението си, бившите си двеста души, и на, честен кръст, че не лъжа! Току-що го научих, но затова пък от най-достоверния източник. А по-нататък сам се поразровете; повече нищо не казвам; довиждане, значи!
X
Степан Трофимович ме очакваше с истерично нетърпение. Цял час, откакто се беше върнал. Заварих го сякаш пиян; във всеки случай първите пет минути мислех, че е пиян. Уви, визитата у Дроздови го беше съсипала окончателно.
— Mon ami, аз съвсем загубих нишката… Lise… аз обичам и уважавам този ангел, както преди, именно както преди, но ми се струва, че те и двете ме чакаха единствено за да научат нещичко, тоест чисто и просто да изкопчат нещо от мен, пък после ти върви си гледай работата… Тъй е.
— Как не ви е срам! — не се стърпях и викнах аз.
— Друже мой, сега съм съвсем самичък. Enfin, c’est ridicule[30]. Представяте ли си, и там гъмжи от тайни. Просто се нахвърлиха отгоре ми за тия уши и носове и за някакви си петербургски тайни. Нали и двете чак сега научили за ония тукашни истории на Nicolas отпреди четири години: „Били сте тук, видели сте, вярно ли е, че е побъркан?“ И откъде ли се пръкна тази идея, не разбирам. Защо на Прасковя толкова й се иска Nicolas да излезе побъркан? Иска й се на тая жена, иска й се! Ce Maurice[31] или пък как му викаха, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même[32], но мигар пак заради него, и то след като самата тя първа писа от Париж на cette pauvre amie[33]. Enfin, тази Прасковя, както я нарича cette chère amie[34], е същински тип, това е безсмъртната Коробочка на Гогол, само че една зла Коробочка, заядлива Коробочка и безкрайно уголемена.
— Че то цял сандък[35] ще излезе; чак пък уголемена?
— Добре де, умалена, все едно, само не ме прекъсвайте, защото всичко ми се върти. Онези съвсем са се изпокарали; освен Lise; все „Леличке, леличке“… но Lise е хитра и тук пак има нещо. Тайни. Но със старата са се скарали. Cette pauvre[36] леличка наистина всички тиранизира… но и на нея много й се събра — и губернаторшата, и непочтителността на обществото, и „непочтителността“ на Кармазинов; че на туй отгоре и тази мисъл за побъркването, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas[37] и… и казват, че си слагала кърпи с оцет, а за капак и ние с вас, с нашите жалби и писма… О, как съм я измъчвал, и то тъкмо сега! Je suis un ingrat![38] Представете си, връщам се и намирам писмо от нея; четете, четете! О, колко неблагородно е било от моя страна.
Той ми подаде току-що полученото от Варвара Петровна писмо. Тя, изглежда, се бе разкаяла за сутрешното „Стойте си вкъщи“. Писъмцето беше учтиво, но решително и немногословно. Канеше Степан Трофимович вдругиден, в неделя, точно в дванайсет часа, и го съветваше да вземе някой от приятелите си (в скоби стоеше моето име). Тя от своя страна обещаваше да повика Шатов, като брат на Даря Павловна. „Ще получите от нея окончателния отговор, стига ли ви толкова? За тази формалност ли ви беше зорът?“
— Забележете, тази нервна фраза на края, за формалността. Бедната, бедната, единствената ми приятелка! Признавам, че това внезапно съдбоносно решение просто ме смаза. Да си призная, все още се надявах, а сега tout est dit[39], знам го, всичко е свършено, c’est terrible[40]. О, да не бе я имало изобщо тази неделя, да си беше както досега, вие щяхте да ходите там, а аз тук…
— Вас ви изкараха от релсите одевешните мръсотии и клюки на Липутин.
— Друже мой, сега пък бръкнахте с приятелския си пръст в друга рана. Изобщо тези приятелски пръсти са безжалостни, а понякога и тъпички, pardon, но аз, вярвате ли ми, бях почти забравил всичко това, мръсотиите де, тоест ни най-малко не съм забравил, но поради моята глупост през всичкото време, докато бях у Lise, се мъчех да бъда щастлив и уверявах себе си, че съм щастлив. Но сега, о, сега, за тази великодушна, хуманна, търпелива спрямо подлите ми недостатъци жена — тоест, макар и недотам търпелива, но пък и мен си ме бива с моя никакъв, с моя нелеп характер! Ами че аз съм едно капризно дете, с целия му детски егоизъм, но без неговата чистота. Двайсет години вървя подире ми като бавачка, cette pauvre леличка, както грациозно я нарича Lise… И след двайсет години детето внезапно поисква да се жени, ожени ме, та ме ожени, писмо подир писмо, а тя е с оцетни кърпи на главата и… и ето, постигнах своето, в неделя съм женен човек, шега няма… И за какво толкова настоявах, защо ги писах тия писма? Да, забравих: Lise боготвори Даря Павловна, поне тъй казва: „C’est un ange[41], казва, само че малко потаен, казва, ангел.“ И двете ме насърчават, дори Прасковя… впрочем Прасковя не ме насърчава. О, колко отрова е скрита у тая Коробочка! Впрочем Lise всъщност не ме насърчава: „Че защо ви е да се жените, стигат ви и научните утехи.“ Смее се. Аз й го простих тоя смях, защото и на нея й се стяга душата. От друга страна обаче, казват, че наистина ми трябвала жена. Наближавали годините на моята немощ, а тя щяла да ме завива нощем, или какво беше там… Ma foi[42] самият аз през всичкото време, докато седяхме с вас, все си мислех, че самото провидение ми я изпраща на края на бурните ми дни и че тя ще ме завива или какво беше там… Enfin[43], ще ми трябва за домакинството. Гледайте каква мръсотия е тук, гледайте, всичко е разхвърляно, одеве казах да разтребят, и книги по пода. La pauvre amie все ми се сърдеше, че било мръсно… О, сега вече няма да чувам нейния глас! Vingt ans![44] И те получили анонимни писма, представете си, Nicolas уж бил продал на Лебядкин имението. C’est un monstre; et enfin[45], що за птица е тоя Лебядкин? Lise слушаше, слушаше, ух, как слушаше само! Простих й смеха, видях я с какво лице слушаше, и ce Maurice… не бих желал да бъда на негово място, brave homme tout de même, но малко стеснителен; впрочем, както и да било…
Той млъкна, умори се, забрави какво искаше да каже, клюмна глава, вперил в пода уморен поглед. Възползвах се от паузата и разказах за моето посещение в дома на Филипов, при това рязко и сухо изразих мнението си, че сестрата на Лебядкин (която не бях виждал) навремето наистина би могла да бъде някоя от жертвите на Nicolas, през онзи загадъчен период на живота му, както се изразяваше Липутин, и че е дори много възможно Лебядкин да получава за нещо пари от Nicolas, но това е всичко. И че що се отнася до клюките за Даря Павловна, всичко това са глупости, всичко е измишльотина на мръсника Липутин, тъй поне твърди Алексей Нилич, на когото няма основания да не се вярва. Степан Трофимович изслуша уверенията ми разсеяно, сякаш всичко това не го засягаше. Споменах впрочем и за разговора си с Кирилов, прибавяйки, че Кирилов е може би луд.
— Не е луд, но това са хора с маломерни мисли — вяло и сякаш неохотно изфъфли той. — Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne pas a faites et qu’elles ne sont réelement[46]. Всички ми правят мили очи, но не и аз, не и Степан Верховенски. Нагледах им се тогава в Петербург, avec cette chère amie (о, как я оскърбявах тогава!) и не само от ругатните им — от хвалебствията им дори не се уплаших. Няма да се изплаша и сега, mais parlons d’autre chose…[47] аз май направих ужасни неща; представете си, вчера пратих на Даря Павловна писмо и… как се проклинам за това!
— Какво й писахте?
— О, приятелю, повярвайте, че всичко е най-благородно. Уведомих я, че съм писал на Nicolas още преди пет дни, и също най-най-благородно.
— Сега разбирам! — викнах аз разпалено. — И с какво право ги свързвате по този начин?
— Но, mon cher, не ме смазвайте окончателно, не ми викайте; аз и без това съм целият смазан като… като хлебарка и аз най-сетне смятам, че всичко това е много благородно. Защо да не допуснем, че там наистина е имало нещо… en Suisse…[48] или е започнало. Не съм ли длъжен да запитам предварително сърцата им, за да… enfin, за да не попреча на сърцата им и да не препреча пътя… Единствено от благородство.
— О, боже мой, колко глупаво сте постъпили! — изтървах се неволно аз.
— Глупаво, глупаво! — поде той и дори с настървение. — Никога нищо по-умно не сте казвали, c’était bête, mais que faire, tout est dit[49]. Все едно, ще се оженя, та било и заради „чужди грехове“, тогава за какво ми трябваше да пиша? Не е ли тъй?
— Вие си знаете своето!
— О, сега вече няма да ме изплашите с вашите крясъци, сега пред вас не е вече оня Степан Трофимович; оня е погребан; enfin, tout est dit[50]. Пък и защо крещите? Единствено защото не сте вие този, който се жени, и не сте вие този, който ще носи добре познатото украшение на главата си. Пак ли сте шокиран? Бедни ми друже, вие не познавате жените, а аз цял живот съм ги изучавал. „Искаш ли да победиш света, победи себе си“ — единствената умна фраза на друг един романтик като вас — Шатов, братчето на моята съпруга, с удоволствие ще използвам тая му фраза. С една дума, и аз съм готов да победя себе си и се женя, макар че какво получавам вместо света? О, друже мой, бракът — това е нравствената смърт на всяка горда душа, на всяка независимост. Брачният живот ще ме разврати, ще ми отнеме енергията, мъжеството да служа на делото, ще дойдат деца, че току-виж, и няма да са мои, тоест естествено няма да са мои; мъдрият не се бои да погледне истината в очите… Одеве Липутин ми предлагаше да се спасявам от Nicolas чрез барикади: тоя Липутин е глупак. Жената ще излъже и най-зоркото око. Създавайки жената, le bon Dieo[51], разбира се, е знаел вече на какво се излага, но сигурен съм, че самата тя му е попречила и тя го е накарала да я създаде в тоя й вид и… с тия атрибути; че инак кой би си създавал подобни главоболия за нищо? Знам, Настася може и да се разсърди за волнодумството ми, но… Enfin, tout est dit.
Той нямаше да бъде той, ако се откажеше от евтините си каламбури — модата им отдавна беше минала, но в случая каламбурът му донесе утеха; не задълго обаче.
— О, да можеше съвсем да ги няма тоя другиден, тази неделя! — възкликна той внезапно, но вече в пълно отчаяние. — Защо поне една-едничка седмица не остане без неделя — si le miracle existe?[52] Какво му струва на провидението да зачеркне от календара поне една-единствена неделя, макар и за да докаже на един атеист своето могъщество, et que tout soit dit[53]. О, колко съм я обичал! Двайсет години, всичките тия двайсет години, и никога не ме е разбирала!
— За кого говорите, не ви разбирам! — запитах аз учудено.
— Vingt ans! И нито веднъж не ме разбра, о, това е жестоко! И наистина, нима си мисли, че се женя от страх, от нужда? О, какъв позор! Леля, леличка!… О, нека тази леличка узнае, че е единствената жена, която цели двайсет години съм обожавал! Тя трябва да го узнае, иначе край, иначе само със сила ще ме замъкнат под това ce qu’on appelle le[54] венчило!
За първи път чувах това признание, и то тъй енергично направено. Няма да крия, че много ме напушваше смях. Не бях прав.
— Само той, само той ми остана сега, единствената ми надежда! — плесна изведнъж ръце Степан Трофимович, сякаш внезапно поразен от нова мисъл. — Сега само той, моето бедно момче, ще ме спаси — о, защо го няма още! О, сине мой, о, мой Петрушка… и макар да не съм достоен да се наричам баща, а по-скоро тигър, но… laissez-moi, mon ami[55], аз малко ще полегна да си посъбера мислите. Тъй съм уморен, тъй съм уморен, пък и за вас, мисля, е време за сън, voyez-vous[56], дванайсет часът…