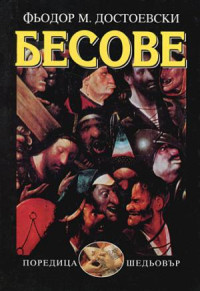Метаданни
Данни
- Година
- 1870–1871 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 6 (× 1 глас)
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 7. Л.: Наука, 1990
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Включено в книгата
- Оригинално заглавие
- Бесы, 1872 (Пълни авторски права)
- Превод от руски
- Венцел Райчев, 1983 (Пълни авторски права)
- Форма
- Роман
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,8 (× 48 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
- Сканиране, разпознаване и корекция
- automation (2011 г.)
- Допълнителна корекция
- NomaD (2011 г.)
Издание:
Фьодор Достоевски. Бесове
Превод от руски: Венцел Райчев
Редактор: Иван Гранитски
Художник: Петър Добрев
Коректор: Валерия Симеонова
На корицата: детайл от картината „Носене на кръста“, художник Йеронимус Бош
Формат 16/60/90 Печатни коли 43,5
Издателство „Захарий Стоянов“, 1997 г.
Предпечатна подготовка ЕТ „ПолиКАД“
„Абагар“ АД — Велико Търново
ISBN: 954-9559-04-1
История
- — Добавяне
Глава вторая
Принц Гарри. Сватовство
I
На земле существовало еще одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее, как к Степану Трофимовичу, — единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашен был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключается в том, что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти- или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая, что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать, что она его очень любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла, но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (Впоследствии он отличался чрезвычайною физическою силой). Надо полагать тоже, что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не всё об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители, которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, если б даже таковое и было возможно). Но во всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.
Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и всё по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем, накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства, о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что всё это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и вследствие таковых деяний был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.
В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то уж скоро и в офицеры. Во всё это время Варвара Петровна отправила, может быть, до сотни писем в столицу с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связывался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именьице — бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.
Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому, конечно, была уже известна вся биография господина Ставрогина, и даже с такими подробностями, что невозможно было представить, откуда они могли получиться, и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нового гостя. Они резко разделились на две стороны — в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца. Оказалось тоже, что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний, конечно, не много требовалось, чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах, и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностию. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода — вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.
Кстати замечу в скобках, что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями, — чем и объясняется то, что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, как наше. В городе постоянно говорили, что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это было едко сказано, но, однако же, — решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайное уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы, ею самою себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и пр.) она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами). Мало-помалу Степан Трофимович стал называть ее прозаическою женщиной или еще шутливее: «своим прозаическим другом». Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.
Все мы, близкие, понимали, — а Степан Трофимович чувствительнее всех нас, — что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты, когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было, что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая… и вот — зверь вдруг выпустил свои когти.
II
Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то есть главное именно в том состояло, что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие, какие в обыкновенном употреблении, совсем дрянные и мальчишеские, и черт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!». Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и всё людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и, однако же, рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно всё понимал в настоящем виде и не только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец вдруг как будто задумался опять, — так по крайней мере передавали, — нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:
— Вы, конечно, извините… Я, право, не знаю, как мне вдруг захотелось… глупость…
Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.
Всё это было очень глупо, не говоря уже о безобразии — безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того, что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь, пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного «бретера, вверенною ему административною властию, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений». С злобною невинностию прибавляли при этом, что, «может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон». Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора, как нарочно, не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль, — может быть, смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что, стало быть, очень-то уж торжествовать нечего.
И, однако, как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство, что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумасшествию. Значит, от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю, как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы всё объяснившее и всех, по-видимому, умиротворившее. Прибавлю тоже, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил нахмурившись: «Да, я был тогда не совсем здоров». Но забегать вперед нечего.
Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которою все у нас накинулись тогда на «буяна и столичного бретера». Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить всё общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил, — а чем бы, кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. Полагаю, что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мужчин.
Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу, что всё это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в «этом самом роде» — признание замечательное со стороны родной матери. «Началось!» — подумала она содрогаясь. На другое утро после рокового вечера в клубе она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось, чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.
Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет. Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже, — но уж такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал, что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренне думает, что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.
Гостей набралось множество; народ был неказистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь в ожидании ужина затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину — чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую, — сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец, какая она хорошенькая, когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам и, пробормотав ему наскоро: «Не сердитесь», вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же как раз подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной истории, говоря сравнительно, — прибавление, доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.
Часов в десять утра в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая «повидать их самих-с». У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.
— Сергей Васильич (то есть Липутин), — бойко затараторила Агафья, — перво-наперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?
Николай Всеволодович усмехнулся.
— Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.
— А они против этого приказали вам отвечать-с, — еще бойчее подхватила Агафья, — что они и без вас про то знают и вам того же желают.
— Вот! да как он мог узнать про то, что я тебе скажу?
— Уж не знаю, каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу, они меня догоняют без картуза-с: «Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: „Скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе“, так ты им тотчас на то не забудь: „Сами оченно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с…“».
III
Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый, мягкий наш Иван Осипович только что воротился и только что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения, надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде, и если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вошел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник, а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал «Голос», разумеется не обращая никакого внимания на то, что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но всё несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.
— Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, — включил, между прочим, старичок, — человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей… И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться… Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что могут означать такие выходки, подобно как в бреду?
Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.
— Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, — угрюмо проговорил он и, оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за «Голосом». Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны, и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал, что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.
— Nicolas, что за шутки! — простонал он машинально, не своим голосом.
Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось, что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная, броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил, может быть, это и притиснул ухо побольнее.
— Nicolas, Nicolas! — простонала опять жертва, — ну… пошутил и довольно…
Еще мгновение, и, конечно, бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.
И наконец-то всё объяснилось! В два часа пополуночи арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Всё разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно, что и он считал, стало быть, Николая Всеволодовича способным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали, как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались не долго.
Nicolas пролежал с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было, что он имел с Павлом Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень серьезен и несколько даже мрачен. Все приняли его, по-видимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому, что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности, что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.
— Скажите, — спросил он его, — каким образом вы могли заране угадать то, что я скажу о вашем уме, и снабдить Агафью ответом?
— А таким образом, — засмеялся Липутин, — что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предузнать.
— Все-таки замечательное совпадение. Но, однако, позвольте: вы, стало быть, за умного же человека меня почитали, когда присылали Агафью, а не за сумасшедшего?
— За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто верю про то, что вы не в рассудке… Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.
— Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле… был нездоров… — пробормотал Николай Всеволодович нахмурившись. — Ба! — вскричал он, — да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?
Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел или так только показалось Липутину.
— Во всяком случае, у вас очень забавное настроение мыслей, — продолжал Nicolas, — а про Агафью я, разумеется, понимаю, что вы ее обругать меня присылали.
— Не на дуэль же было вас вызывать-с?
— Ах да, бишь! Я ведь слышал что-то, что вы дуэли не любите…
— Что с французского-то переводить! — опять скрючился Липутин.
— Народности придерживаетесь?
Липутин еще более скрючился.
— Ба, ба! что я вижу! — вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана. — Да уж не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? — засмеялся он, стуча пальцами в книгу.
— Нет, это не с французского перевод! — с какою-то даже злобой привскочил Липутин, — это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!…
— Фу, черт, да такого и языка совсем нет! — продолжал смеяться Nicolas.
Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из всех впечатлений его, за всё время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и гармонии».
«Бог знает как эти люди делаются!» — думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста.
IV
Наш принц путешествовал три года с лишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери — раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностию, но, уж конечно, каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, по-видимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее, чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.
Наконец в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна, — с которою Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь, — уведомляла ее, что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственною ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Vernex-Montreux, несмотря на то что в семейства графа К… (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова) и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.
Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в Vernex-Montreux во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штаб-ротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая, он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии, которое должно было ей достаться со временем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, по-видимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила всё Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.
— Ура! — вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.
Он был в полном восторге, тем более что всё время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов «этой бабе», опасаясь, может быть, чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим, что брошенного друга надо по возвращении вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и, как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствие Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало быть, и к Степану Трофимовичу. По крайней мере он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна». Всем откудова-то было достоверно известно с подробностями, что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.
— Вам, excellente amie,[1] без всякого сомнения известно, — говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, — что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то есть нововыпеченный, новопоставленный… Ces interminables mots russes!….[2] Но вряд ли могли вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно это штука?
— Административный восторг? Не знаю, что такое.
— То есть… Vous savez, chez nous… En un mot,[3] поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть…». И это в них до административного восторга доходит… En un mot, я вот прочел, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, — mais s’est très curieux[4] — выгнал, то есть выгнал буквально, из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes,[5] пред самым началом великопостного богослужения, — vous savez ces chants et le livre de Job…[6] — единственно под тем предлогом, что «шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок и чтобы приходили в показанное время…», и довел до обморока… Этот дьячок был в припадке административного восторга, et il a montré son pouvoir…[7]
— Сократите, если можете, Степан Трофимович.
— Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. En un mot, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания и даже — уступлю ему это — замечательно красивый мужчина, из сорокалетних…
— С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза.
— В высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам…
— Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли?
— Это я… я только сегодня…
— А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?
— Не… не всегда.
— Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! — раздражительно вскричала она. — Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели… вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук… quelle idée rouge![8] Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.
— En un mot, я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов, которые до сорока лет прозябают в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди посредством внезапно приобретенной супруги или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством… То есть он теперь уехал… то есть я хочу сказать, что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма… Он тотчас же начал справляться.
Да правда ли?
Я даже меры принял. Когда про вас «до-ло-жили», что вы «управляли губернией», vous savez,[9] — он позволил себе выразиться, что «подобного более не будет».
— Так и сказал?
— Что «подобного более не будет» и avec cette morgue…[10] Супругу, Юлию Михайловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.
— Из-за границы. Мы там встретились.
— Vraiment?[11]
— В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.
— Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят, честолюбива и… с большими будто бы связями?
— Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон Лембке, и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.
— И, говорят, двумя годами старше его?
— Пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивалась. А эта, бывало, всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовою мухой на лбу, так что я уж в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее всё как девчонку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.
— Эту муху я точно вижу.
— Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова, — она всегда только дурой была, — вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить, как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник, — всё ясно! Разумеется, я мигом всё переделала и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!
— Которую вы, однако же, победили. О, вы Бисмарк!
— Не будучи Бисмарком, я способна, однако же, рассмотреть фальшь и глупость, где встречу. Лембке — это фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?
— Злой дурак, ma bonne amie,[12] злой дурак еще глупее, — благородно оппонировал Степан Трофимович.
— Вы, может быть, и правы, вы ведь Лизу помните?
— Charmante enfant![13]
— Но теперь уже не enfant, а женщина, и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней, что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.
— Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня… Виды, что ли, имеет?
— Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал Nicolas. Вы понимаете, всё дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к Nicolas оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стало быть, интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне, что все мои подозрения — фантазия; я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на Страшном суде готова подтвердить. И если бы не просьбы Nicolas, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез Nicolas заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?
— Как? Родственник мадам фон Лембке?
— Ну да, ей. Дальний.
— Кармазинов, нувеллист?
— Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно, он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем, надеюсь, что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала, чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы… О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?
— Я… я…
— Понимаю. По-прежнему приятели, по-прежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь всё это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.
— Mais, ma chère…[14]
— Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я, конечно, пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.
— К какому же?
— К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас.
— И остроумно и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас, стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Mais, ma bonne amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изувером, если того хочу, а за это, естественно, буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison,[15] и так как я совершенно с этим согласен…
— Как, как вы сказали?
— Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и так как я с этим…
— Это, верно, не ваше: вы, верно, откудова-нибудь взяли?
— Это Паскаль сказал.
— Так я и думала… что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше, чем давеча про административный восторг…
— Ma foi, chère…[16] почему? Во-первых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль, et puis…[17] во-вторых, мы, русские, ничего не умеем на своем языке сказать… По крайней мере до сих пор ничего еще не сказали…
— Гм! Это, может быть, и неправда. По крайней мере вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора… Ах, Степан Трофимович, я с вами серьезно, серьезно ехала говорить!
— Chère, chère amie![18]
— Теперь, когда все эти Лембки, все эти Кармазиновы… О боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!… Я бы желала, чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят, а вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какою-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; всё ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?
— Почему же он мой и неразлучный? — робко протестовал Степан Трофимович.
— Где он теперь? — строго и резко продолжала Варвара Петровна.
— Он… он вас беспредельно уважает и уехал в С — к, после матери получить наследство.
— Он, кажется, только и делает что деньги получает. Что Шатов? Всё то же?
— Irascible, mais bon.[19]
— Терпеть не могу вашего Шатова; и зол, и о себе много думает!
— Как здоровье Дарьи Павловны?
— Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? — любопытно поглядела на него Варвара Петровна. — Здорова, у Дроздовых оставила… Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.
— Oh, c’est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter…[20]
Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться… Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады… Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала! Можно же, наконец, пощадить человека!
Степан Трофимович «пощадил человека», но удалился в смущении.
V
Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал, чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он всё что-то предчувствовал, боялся чего-то, неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.
Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но всё довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.
— И чего она всё сердится! — жаловался он поминутно, как ребенок. — Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoï…[21] а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница… Укоряет, зачем я ничего не пишу? Странная мысль!… Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять «примером и укоризной». Mais, entre nous soit dit,[22] что же и делать человеку, которому предназначено стоять «укоризной», как не лежать, — знает ли она это?
И, наконец, разъяснилась мне та главная, особенная тоска, которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Наконец повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:
— Mon cher, je suis[23] un опустившийся человек!
Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все «новые взгляды» и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, что он всё еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?
VI
Приступлю теперь к описанию того отчасти забавного случая, с которого, по-настоящему, и начинается моя хроника.
В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург (NB. У графа все три дочери невесты).
— От Лизаветы, по гордости и по строптивости ее, я ничего не добилась, — заключила Прасковья Ивановна, — но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада-радешенька, что привезла вам наконец вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.
Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было, что «раскисшая женщина» заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачить сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том, что «дочь ей не друг».
Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка, — о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же, взводимых на Дарью Павловну, она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их «в раздражении». Одним словом, всё выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее, размолвка началась от «строптивого и насмешливого» характера Лизы; «гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести и сам стал насмешлив».
— Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется, вашего «профессора» племянник, да и фамилия та же…
— Сын, а не племянник, — поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомнить фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его «профессором».
— Ну, сын так сын, тем лучше, а мне ведь и всё равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут уж сама Лиза поступила нехорошо, молодого человека к себе приблизила из видов, чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович, вместо того чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему всё равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек вскорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она, что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут уж и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то, что от Женевского озера зубы болят: свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное всё это. Уехал он, — стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По-моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать, как обещал.
— Напишу ему тотчас же. Коли всё было так, то пустая размолвка; всё вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.
— Про Дашеньку я, покаюсь, — согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да уж очень меня, матушка, всё это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской…
Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение «Прасковьи» казалось ей слишком невинным и сентиментальным. «Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна, с самого еще пансиона, — думала она, — не таков Nicolas, чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот, однако, здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и насчет Дарьи Прасковья слишком уж скоро повинилась: верно, что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать…».
К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить по крайней мере хоть с одним недоумением — проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее, когда она создала его? — трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия, из которых он состоял. Как хроникер, я ограничиваюсь лишь тем, что представляю события в точном виде, точно так, как они произошли, и не виноват, если они покажутся невероятными. Но, однако, должен еще раз засвидетельствовать, что подозрений на Дашу у ней к утру никаких не осталось, а по правде, никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить, чтоб ее Nicolas мог увлечься ее… «Дарьей». Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась и, может быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностию произнесла про себя:
— Всё вздор!
Заметила только, что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности, — обо всем, что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, рассказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.
— Дарья, — прервала ее вдруг Варвара Петровна, — ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?
— Нет, ничего, — капельку подумала Даша и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.
— На душе, на сердце, на совести?
— Ничего, — тихо, но с какою-то угрюмою твердостию повторила Даша.
— Так я и знала! Знай, Дарья, что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай, — хочешь замуж?
Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком, впрочем, удивленным.
— Стой, молчи. Во-первых, есть разница в летах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь, какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем, он еще красивый мужчина… Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?
Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.
— Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас, — хоть я и обеспечу его, — что с ним будет? А на тебя-то уж я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, во-первых, уж потому, что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбыть с рук хочу, ты уж не подумала ли чего? А главное, потому что я прошу, потому и будешь ценить, — оборвала она вдруг раздражительно, — слышишь? Что же ты уперлась?
Даша всё молчала и слушала.
— Стой, подожди еще. Он баба — но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?
Даша кивнула головой утвердительно.
— Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! — как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна. — А впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить — дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет — не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится; а потому никогда не доводи до последней черты, — и это первое правило в супружестве. Помни тоже, что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья, как собою пожертвовать. И к тому же ты мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай, что я по глупости сейчас сбрендила; я понимаю, что говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что ж уселась, говори что-нибудь!
— Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надобно замуж выйти, — твердо проговорила Даша.
— Непременно? Ты на что это намекаешь? — строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.
Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой.
— Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и двадцать лет… Ну?
— Я как вам угодно, Варвара Петровна.
— Значит, согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо, чтоб он знал, что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь — потом не оберешься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь, до его только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя останутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет; надо, чтобы ты знала. Ну, согласна, что ли? Скажешь ли, наконец, что-нибудь?
— Я уже сказала, Варвара Петровна.
— Вспомни, что твоя полная воля, как захочешь, так и будет.
— Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь?
— Нет, он ничего не говорил и не знает, но… он сейчас заговорит!
Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пылающим от гнева лицом.
— Дура ты! — накинулась она на нее, как ястреб, — дура неблагодарная! Что у тебя на уме? Неужто ты думаешь, что я скомпрометирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленях будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот как это будет устроено! Ты ведь знаешь же, что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь, что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Подай зонтик!
И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.
VII
Это правда, что «Дарью» она не дала бы в обиду; напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что «Дарьин характер не похож на братнин» (то есть на характер брата ее, Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностию, необыкновенною скромностию, редкою рассудительностию, и, главное, благодарностию. До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожидания. «В этой жизни не будет ошибок», — сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По-настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда, когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно, как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется, Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими рассказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-помалу совсем перестал обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностию. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодою девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготовляться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и, уходя, объявил ученице, что в следующий раз приступит к разбору «Слова о полку Игореве», Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась, однако же, затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.
Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен, что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней розовой ватной фуфайке.
— Ma bonne amie!… — слабо крикнул он ей навстречу.
— Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите; господи, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство — беспорядок! Ваше наслаждение — сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери, всё настежь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!
— Сорят-с! — раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья.
— А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с образчиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!
— Я… сейчас, — крикнул из другой комнаты Степан Трофимович, — вот я и опять!
— А, вы переменили костюм! — насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки). Этак действительно будет более подходить… к нашей речи. Садитесь же наконец, прошу вас.
Она объяснила ему всё сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему дозарезу нужны. Подробно рассказала о приданом. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал. Слышал всё, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но всё обрывался голос. Знал только, что всё так и будет, как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.
— Mais, ma bonne amie,[24] в третий раз в моих летах… и с таким ребенком! — проговорил он наконец. — Mais c’est une enfant![25]
— Ребенок, которому двадцать лет, слава богу! Не вертите, пожалуйста, зрачками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости! — вдруг яростно вскричала она. — У вас сор, она заведет чистоту, порядок, всё будет как зеркало… Э, да неужто же вы мечтаете, что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях… О, пустой, пустой, малодушный человек!
— Но… я уже старик!
— Что значат ваши пятьдесят три года! Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мужчина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностию. Вы, может быть, спасете ее, спасете! Во всяком случае, честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого, что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните.
— Я именно, — пробормотал он, уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны, — я именно собираюсь теперь присесть за мои «Рассказы из испанской истории»…
— Ну, вот видите, как раз и сошлось.
— Но… она? Вы ей говорили?
— О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно, вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите…
У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которою он никак не мог сладить.
— Excellente amie! — задрожал вдруг его голос, — я… я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня… за другую… женщину!
— Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, — ядовито прошипела Варвара Петровна.
— Qui, j’ai pris un mot pour un autre. Mais… c’est égal,[26] — уставился он на нее с потерянным видом.
— Вижу, что c’est égal, — презрительно процедила она, — господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!
Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.
— Я вижу, что с вами теперь нечего говорить…
— Oui, oui, je suis incapable.[27]
— Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится, дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь, чтобы никого не было и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!
Разумеется, назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство…
VIII
Так называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало быть, теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в год до тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может быть, и того менее). Бог знает как установились подобные отношения. Впрочем, всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее вконец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и, тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила по крайней мере тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами, когда наконец обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал, что приедет сам продать свои владения во что бы ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред ce cher enfant[28] (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально всё имение могло стоить тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший maximum цены, то есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы, и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди ce cher fils,[29] чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи… их «идее». Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна всё отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее maximum цены, то есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова.
Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда, что сынок, пожалуй, и совсем не приедет, — то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам всё такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие, что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве, — бежал чего доброго.
— Удивительно мне это, — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся, — Петруша c’est une si pauvre tête![30] Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но c’est un pauvre sire tout de même…[31] И, знаете, всё от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок его, поэзия его… с чужого голоса, разумеется. И, однако, мне-то, мне каково! У меня здесь столько врагов, там еще более, припишут влиянию отца… Боже!… Петруша двигателем! В какие времена мы живем!
Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Всё это было прекрасно, но, однако, где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный maximum цены за имение? А что если подымется крик и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. «Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это? Неужели тоже от сентиментальности?». Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были, по-модному, на ты, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.
Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно, поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, — одним словом, всё произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки и жалобно начал взывать: «Простишь ли ты меня?». Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. Наутро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем лишь чуть-чуть, и, только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.
— И прекрасно! — похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. — Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, — прибавила она, разглядывая узел его белого галстука, — покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и, пожалуйста, без вина и без закусок; впрочем, я сама всё устрою. Пригласите ваших друзей, — впрочем, мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума… Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже, может быть, с вами поеду… А главное, до тех пор молчите.
Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась:
— Это зачем? Во-первых, ничего еще, может быть, и не будет…
— Как не будет! — пробормотал жених, совсем уже ошеломленный.
— Так. Я еще посмотрю… А впрочем, всё так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Всё нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишите. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.
Она решительно не хотела объясняться и ушла видимо расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился.
— Это мне нравится! — восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками. — Вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и… не захотеть! «Сидите, и нечего вам туда ходить», но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек серьезный и могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и… и к самому себе! Я жертву приношу — понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь и мне всё равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не всё равно; я обижусь и откажусь. Et enfin, le ridicule…[32] Что скажут в клубе? Что скажет… Липутин? «Может, ничего еще и не будет» — каково! Но ведь это верх! Это уж… это что же такое? — Je suis un forçat, un Badinguet,[33] un припертый к стене человек!…
И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили.
Глава втора
Принц Хари. Годежът
I
Имаше още едно лице на този свят, към което Варвара Петровна бе привързана не по-малко, отколкото към Степан Трофимович — единственият й син Николай Всеволодович Ставрогин. Тъкмо за него бе повикан като възпитател Степан Трофимович. Момчето бе тогава осемгодишно, а баща му, лекомисленият генерал Ставрогин, по това време живееше вече отделно от майчето, тъй че детето отрасна единствено под нейната опека. Трябва да му се признае на Степан Трофимович, съумял беше да привърже към себе си своя възпитаник. Цялата му тайна се състоеше в това, че самият той беше едно дете. Мен тогава още ме нямаше, а той постоянно се нуждаеше от близък приятел. И не се беше поколебал истински да се сближи с едно такова мъничко същество веднага щом малко от малко беше поотраснало. Тъй естествено се бяха стекли нещата, че помежду им нямаше ни най-малкото разстояние. Той неведнъж беше будил своя десет– или единайсетгодишен приятел през нощта, само и само за да му излее и изплаче със сълзи обидите си или да му разкрие някоя домашна тайна, без да си дава сметка, че това е пък съвсем нередно. Хвърляха се в прегръдките си и плачеха. За майка си момчето знаеше, че много го обича, но самото то едва ли я обичаше много. Тя малко говореше с него, рядкост бе да го ограничеше в нещо, но то винаги и някак болезнено усещаше внимателния й поглед. Впрочем относно обучението и нравственото развитие майка му изцяло се бе доверила на Степан Трофимович. Тогава тя още напълно му вярваше. Педагогът, види се, беше поразстроил нервите на своя възпитаник. Когато на шестнайсетата му година го бяха отвели в лицея, бе хилав и блед, странно тих и унесен. (Впоследствие се отличаваше с изключителна физическа сила.) И хвърляйки се нощем в прегръдките си, приятелите, види се, не са проливали сълзи само заради някакви домашни истории. Степан Трофимович бе успял да докосне най-тънките струни в душата на приятеля си и да събуди у него първото, още неопределено усещане за онази предвечна, свещена тъга, вкусили веднъж от която, изпитали я веднъж, някои избрани души после никога няма да заменят за евтино удовлетворение. (Има ги такива любители, които скъпят тая тъга повече от най-радикалното удовлетворение, ако такова изобщо би било възможно.) Но във всеки случай беше хубаво, че неопереното още пиле и наставника му, макар и късно, но ги бяха разлъчили.
Първите две години момъкът си идваше през ваканциите. А когато Варвара Петровна и Степан Трофимович бяха в Петербург, понякога присъствал на урежданите от майчето литературни вечери, слушал и наблюдавал. Говорел малко и си бил все тъй свит и стеснителен. Към Степан Трофимович се отнасял с предишното нежно внимание, но вече някак по-сдържано: на високи теми и за минали спомени отбягвал, види се, да заговаря. Завършвайки учението, съгласно майчината воля, постъпи във войската и скоро бе зачислен в един от елитните гвардейски конни полкове. Да се покаже на мамичка с мундира, не дойде и взе рядко да се обажда от Петербург. Пари Варвара Петровна му пращаше с широка ръка, въпреки че след реформата приходът от имението спадна дотам, че на първо време го нямаше и половината от предишния приход. Но от дългите икономии тя впрочем беше натрупала добри пари. С голям интерес следеше успехите на сина си във висшето петербургско общество — където не бе преуспяла тя, беше преуспял младият богат и многообещаващ офицер. Възобновил беше такива познанства, за които тя вече не можеше дори да мечтае, и навред му бяха оказали радушен прием. Но твърде скоро до Варвара Петровна взеха да стигат доста странни слухове: най-неочаквано и някак безогледно момъкът му беше отпуснал края. Не, не че го ударил на карти или пиянство, но се разправяха чудесии за дивата му разюзданост, за някакви хора, които стъпкал с конете си, за някаква зверска постъпка спрямо някаква дама от доброто общество, с която бил имал връзка, а после я оскърбил публично. Нещо дори твърде откровено мръснишко имаше в тази история. На туй отгоре добавяха, че бил същински бретьор, заяждал се и обиждал заради едното удоволствие да обиди. Варвара Петровна се тревожеше и страдаше. Степан Трофимович я уверяваше, че това са само първите бурни пориви на една изключително богата натура, морето щяло да се укроти и всичко това приличало на младините на принц Хари, на лудориите му с Фалстаф, Пойнс и мисис Куикли, описани от Шекспир. Тоя път Варвара Петровна не викна: „Вятър! Вятър!“, както напоследък много често бе почнала да подвиква на Степан Трофимович, а напротив, даде ухо на думите му, поиска да й се разтълкува подробно, дори взе Шекспир и с изключително внимание прочете безсмъртната хроника. Но хрониката не я успокои, пък и не намери кой знае каква прилика. Трескаво чакаше отговорите на някои свои писма. Отговорите не закъсняха; скоро се получи съдбоносната вест, че принц Хари имал почти един след друг два дуела, виновен бил от горе до долу и за двата, единия си противник убил на място, а другия осакатил и вследствие на тези му деяния го дали под съд. Делото свърши с разжалване в редник, лишаване от права и отпращане в един армейски пехотен полк, и пак добре, че му се размина с толкова.
През шейсет и трета година беше успял някак да се отличи; окачиха му кръстчето и го произведоха подофицер[1], а после, на бърза ръка, и офицер. През всичкото това време Варвара Петровна беше пратила в столицата може би към стотина писма с молби и жалби. Позволила си беше да се унизи донейде в този изключителен случай. След производството момъкът изведнъж подаде оставка, но пак не дойде в Скворешники и изобщо престана да пише на майка си. Накрая по странични пътища се разбра, че пак бил в Петербург, но че в предишните кръгове не се мяркал; един вид като да се криел. Подочу се, че се движел в някаква странна компания, свързал се бил с някакви отрепки на петербургското население, някакви изпаднали чиновници, бивши военни, които благородно просели милостиня, пияници; посещавал мръсните им семейства, дни и нощи се губел по разни вертепи и изобщо по какви ли не съмнителни места, занемарил се бил, ходел изпокъсан и това, види се, му допадало. Пари от майка си не искаше; имаше си собствен имот — бившето селце на генерал Ставрогин, откъдето, ако и да не течеше — капеше, и което според мълвата бил дал под наем на някакъв саксонски немец. Най-после майка му го беше склонила да се прибере и принц Хари се появи в нашия град. Че да го видя и аз, защото до този момент не бях го зървал.
Беше извънредно красив момък, около двайсет и петте, и признавам си — порази ме. Очаквах да срещна някакъв мръсен дрипльо, скапан от разврат и просмукан от водка. Наопаки — беше най-изящният джентълмен от всички, които бях виждал някога, извънредно добре облечен и се държеше тъй, както може да се държи само един господин, свикнал на най-изтънчено благоприличие. Не само аз се чудех; чудеше се целият град, на който, разбира се, беше вече известна цялата биография на господин Ставрогин и дори с такива подробности, че е невъзможно да си представиш откъде са се взели, и което е най-чудното — половината от тях излязоха верни. Нашите дами просто полудяха по новия гост. Разделили се бяха рязко на два лагера: в единия го обожаваха, в другия убийствено го мразеха, но и едните, и другите бяха луди по него. Едни ги блазнеше, че може би таи в душата си някаква съдбоносна тайна; на други положително им харесваше, че е убиец. Оказа се също, че е твърде добре образован; дори с известни познания. Вярно, че нас да ни смае човек, не се искат кой знае какви познания; но той можеше да говори и на насъщни, твърде интересни теми и което е най-ценното, извънредно разумно. Подчертавам тая особеност: едва ли не от първия ден всички тук го намериха за крайно разумен човек. Не беше много разговорчив, изящен без изисканост, учудващо скромен и същевременно смел и самоуверен като никой от нас. Нашите франтове го гледаха със завист и помръкнаха пред него. Порази ме също лицето му: косата му — някак прекалено черна, светлите му очи — някак прекалено спокойни и ясни, цветът на лицето му — някак прекалено нежен и бял, руменината му — някак прекалено ярка и чиста, зъби — като бисери, устни — коралови, ще речеш — писан хубавец, а същевременно като да будеше някакво отвращение. Казваха, че лицето му било като маска; впрочем какви ли не ги дрънкаха, а между другото и за изключителната му телесна сила. На ръст беше почти висок. Варвара Петровна го гледаше с гордост, но и с една постоянна тревога. Прекара у нас около пет-шест месеца — тихо и мирно, кротко и доста безцветно; участваше в живота на обществото и крайно прилежно изпълняваше целия ни губернски етикет. С губернатора се падаха роднини по бащина линия и беше приет в дома му като свой. Но ей го — минаха няколко месеца, и звярът внезапно си показа ноктите.
Тук му е мястото да кажа, че нашият мил и мекушав Иван Осипович, бившият ни губернатор, си падаше малко баба, но беше от сой и с връзки, което пък обяснява как изкара у нас сума години, без ей за толкоз да си помръдне пръста. По радушие и гостоприемство му приличаше да е дворянски предводител от доброто старо време[2], а не губернатор през такива сбъркани времена като днешните. В града постоянно се говореше, че губернията я управлявал не той, а Варвара Петровна. Дума да не става, силни приказки, обаче — пълна лъжа. Ама то пък какво ли не се изприказва по този въпрос. Напротив, през последните години, въпреки изключителното уважение от страна на цялото общество, Варвара Петровна умишлено и съзнателно се беше оттеглила от всякакви висши предначертания и доброволно се беше затворила в едни строги рамки, установени от самата нея.
Вместо с висши предначертания тя внезапно се бе заловила със стопанството си и за две-три години докара прихода от имението едва ли не до предишното. Вместо някогашните поетични пориви (ходене в Петербург, намерения да издава списание и пр.) взе да трупа и да се стиска. Дори Степан Трофимович отдалечи от себе си, позволи му да се настани в друго жилище (за което той отдавна натискаше под най-различни предлози). Малко по малко Степан Трофимович взе да я нарича прозаично жена или още по на шега: „моята прозаична дружка“. То се знае, че тия шеги си ги позволяваше само по един най-почтителен начин и дълго избирайки най-удобния момент.
Ние, по-близките, всички разбирахме — а Степан Трофимович най го усещаше, — че сега синът й се беше превърнал за нея в нещо като една нова надежда и дори в някаква нова мечта. Тая страст към сина я беше обзела по време на неговите успехи в петербургското общество и особено се засили от момента, когато се получи известието за разжалването му в редник. А междувременно явно я беше страх от него и се държеше като истинска робиня. Личеше си, че страхът й иде от нещо неопределено, тайнствено, което самата тя не можеше да изрази, и много често скришом отправяше втренчени погледи към Nicolas, мъчейки се да схване и отгатне нещо… и ето на — звярът изведнъж си показа ноктите.
II
Най-неочаквано и ни в клин, ни в ръкав нашият принц направи две-три невъзможни дивотии с разни лица, тоест главното беше, че тия му дивотии бяха просто нечувани, просто безподобни, просто не от тия, дето се правят обикновено, просто съвсем долнопробни и хлапашки и просто, дявол знае защо, ей тъй, без всякакъв повод. Един от най-почтените старейшини на нашия клуб, Павел Павлович Гаганов, човек на възраст и дори заслужил, имаше невинния навик по всеки повод разпалено да обявява: „Не-е, аз не съм от тия, дето ги водят за носа!“ Хубаво, не е. Но веднъж в клуба, когато пак се разпалил и произнесъл тоя си афоризъм пред неколцина събрани наоколо му посетители (хем все не случайни хора), Николай Всеволодович, който стоял настрана и изобщо не участвал в разговора, внезапно се приближил до Павел Павлович, най-ненадейно го стиснал с два пръста за носа и го потътрил на две-три крачки подире си. Да кажеш, че е имал нещо срещу господин Гаганов — нямаше за какво. С една дума — чиста хлапащина, разбира се, най-непростителна; и дори — както после разправяха, в момента на самата операция бил някак унесен, „досущ като откачен“; но за това чак доста по-късно си спомниха и се сетиха. Отначало в суматохата всички бяха запомнили само втория момент, когато той вече трябва да си е давал сметка как стоят нещата, но не само не се смутил, ами, напротив, усмихвал се злобно и весело, „без капка разкаяние“. Вдигнала се невероятна врява; наобиколили го. Николай Всеволодович мълчал, озъртал се наоколо и с интерес разглеждал лицата на ахкащите и охкащите. Накрая изведнъж пак като да се прехласнал — тъй поне го разправяха, — намръщил се, спокойно пристъпил към оскърбения Павел Павлович и бързешката, с видима досада смотолевил:
— Извинете, разбира се… Не зная наистина как тъй изведнъж ми се дощя… глупост…
Небрежното извинение било равносилно на нова обида. Врявата се усилила. Николай Всеволодович свил рамене и си излязъл.
Всичко това беше крайно глупаво, а да не говорим за безобразието — хем, както изглеждаше на пръв поглед, пресметнато и умишлено безобразие, сиреч умишлено, до ента степен нагло оскърбление на цялото ни общество. Тъй го бяха схванали всички. На първо време незабавно и единодушно изключиха господин Ставрогин от клуба; после решиха от името на целия клуб да се обърнат към губернатора с молба незабавно (без да се чакат съдебните процедури) да обуздае опасния скандалджия, столичния „бретьор, използвайки цялата си административна власт, и по този начин да предпази спокойствието на порядъчните хора в града от опасни посегателства“. При което с една жлъчна наивност се прибавяше: „може би и за господин Ставрогин ще се намери да важи някой закон“. Тая фраза я бяха нагласили нарочно за губернатора, та да го жегнат заради Варвара Петровна. Цапотеха с наслада. Губернаторът пък сякаш нарочно тъкмо тогава да не се случи в града; отишъл беше в уезда[3] да кръщава детето на една засукана и наскоро овдовяла дама, оставена от съпруга си в интересно положение; но се знаеше, че скоро се връща. Докато го чакаха, направиха на уважаемия оскърбен Павел Павлович цяла овация: прегръдки и целувки, целият град се изреди в дома му с визити. Проектираше се дори да се пусне подписка за обяд в негова чест и само поради настойчивите му молби зарязаха тази идея — може би най-сетне им дойде наум, че човека все пак го бяха водили за носа и значи нямаше какво толкова да се чества.
И все пак как се случи това? Как можа да се случи? Забележително е именно обстоятелството, че в целия град не се намери един човек да припише тази дивашка постъпка на лудост. Значи и от нормалния Николай Всеволодович са очаквали такива постъпки. Аз от своя страна и досега не знам как да си го обясня дори въпреки последвалото наскоро събитие, което уж обясни всичко и като да умиротвори всички. Ще добавя също, че четири години по-късно на предпазливия ми въпрос относно някогашната случка в клуба Николай Всеволодович намръщено отговори: „Да, тогава аз не бях съвсем здрав.“ Но да не избързваме.
Любопитен ми бе и онзи взрив на всеобща омраза, с която всички се нахвърлиха тогава срещу „скандалджията и столичния бретьор“. Непременно им се щеше да съзрат зъл умисъл и предварително намерение да оскърби с един удар цялото общество. Види се, наистина на никого не беше угодил човекът, напротив, всички беше настроил — и да се чудиш защо? До последния случай нито да се скара с някого, нито да оскърби някого, а пък беше учтив, учтив като кавалер от картинка в моден журнал, стига да проговореше. Мисля, че заради гордостта му го мразеха. Даже нашите дами, дето бяха започнали с обожание, сега виеха против него къде повече от мъжете.
Варвара Петровна беше просто потресена. По-късно беше признала пред Степан Трофимович, че отдавна е очаквала всичко това, всеки божи ден през цялата тая половин година, и дори „тъкмо нещо от тоя род“ — чудесно признание от страна на една родна майка. „Почва се!“ — помислила тя и изтръпнала. На сутринта след съдбоносната вечер в клуба тя внимателно, но решително беше пристъпила към обяснение със сина си, но същевременно треска я тресеше, горката, въпреки всичката й решителност. Цялата нощ не бе мигнала и дори рано сутринта бе отишла да се съветва със Степан Трофимович, че се беше дори разплакала, което дотогава не й се беше случвало пред хора. Искаше й се Nicolas най-малкото поне да й каже нещо, да я удостои поне с някакво обяснение. Nicolas обаче, винаги тъй вежлив и почтителен с майка си, я слушал известно време намръщено, но много сериозно, и без да продума дума, й целунал ръка и излязъл. А същия ден вечерта сякаш по поръчка дойде и другият скандал, който, макар и къде по-невинен и по-обикновен от първия, благодарение на всеобщото настроение твърде усили всеобщия вой.
Изпати си нашият приятел Липутин. Той се явил при Николай Всеволодович тъкмо след обяснението с майчето и най-настоятелно го поканил вечерта да му направи честта да му иде на гости по повод рождения ден на жена му. Варвара Петровна отдавна я втрисаше от тия долнопробни познанства на Николай Всеволодович, но се боеше да му каже каквото и да било по въпроса. Той и без това вече беше завързал няколко други познанства сред тоя третостепенен слой на обществото, че дори и по-надолу — ами имаше си я тая наклонност и туйто. Но макар и да се знаеше с Липутин, дотогава още не бе ходил в дома му. Николай Всеволодович разбрал, че сега Липутин го кани заради вчерашния скандал в клуба, че като местен либерал е във възторг от скандала и най-искрено смята, че тъкмо тъй им се пада на клубните старейшини и че всичко това е много хубаво. Разсмял се и обещал да иде.
Надойдоха много гости; все хора от втора ръка, но инак оперени. Самолюбивият и завистлив Липутин канеше гости само два пъти на годината, но пък тия два пъти се отпущаше. Най-почетният гост — Степан Трофимович — поради заболяване не беше дошъл. Сервира се чай, масите бяха отрупани с ядене и пиене; на три маси се играеха карти, а в очакване на вечерята младежта започна под звуците на пианото танци. Николай Всеволодович покани мадам Липутина — една извънредно привлекателна дамичка, която ужасно се смущаваше от него, — направиха два тура, седна до нея, разсмя я нещо. Забелязвайки най-сетне колко мила става, като се смее, внезапно пред всички я хвана през кръста и я целуна в устата три пъти наред, хем както се целува. Тя, горката жена, припадна от уплаха. Сред всеобщото объркване Николай Всеволодович си взе шапката, отиде при слисания съпруг, но като го погледна, се сконфузи, смотолеви набърже: „Не ми се сърдете“, и излезе. Липутин хукна подире му в антрето, собственоръчно му държа шубата и с поклони го изпрати по стълбата. Но още на другия ден се разчу твърде забавното продължение на тази всъщност невинна, ако ще ги сравняваме, история — продължение, донесло на Липутин дори известно признание, от което той съумя да извлече за себе си всичко, което можеше.
Към десет часа сутринта в дома на госпожа Ставрогина се явила слугинята на Липутин, Агафя, едно безцеремонно, отракано и червенобузесто трийсетгодишно женче, което той пратил със заръка до Николай Всеволодович и което искало непременно „да види лично тях значи“. Него много го боляла глава, но излязъл. Варвара Петровна също се случила при предаването на заръката.
— Сергей Василич (сиреч Липутин) — зацърцорила живо Агафя — ви провежда най-първо много здраве и как сте, значи, заръча да питам, ще рече, благоволихте ли да си отпочинете хубавичко след туй вчерашното, и как се чувствате сега, значи, след вчерашното?
Николай Всеволодович се подсмихнал. — И от мен много здраве и моите благодарности, и да кажеш, Агафя, на господаря си, че той е най-умният човек в целия град.
— А на тия думи заръката е да отговоря — още по-бойко подела Агафя, — че това и без вас си го знае и че на вас ви желае същото, значи.
— Гледай ти! Че откъде е знаел какво ще ти кажа?
— Туй аз не мога го каза, какъв му е начинът, значи, ама като бях вече излязла и чак на пресечката, значи, чувам да тича отзаде, хем гологлав, значи: „Ти, вика, Агафя, ако се сбъркат да ти заръчат: «Тъй и тъй, значи, да речеш на господаря си, че е най-умният в целия град», ти веднага речи, хем не забравяй: «Това много добре си го знаем, значи, и на вас го желаем същото, значи…»“
III
Най-сетне се състоя и обяснението с губернатора. Милият мекушав Иван Осипович току-що се бе върнал и току-що бе успял да изслуша горещата жалба на клуба. Не ще и дума, трябваше да се направи нещо, но той се беше смутил. Нашето гостоприемно старче май също се страхуваше малко от младия си роднина. Набрал обаче кураж да го склони да се извини пред клуба и пред обидения, но по един задоволителен начин и ако се наложи, дори писмено; а после деликатно да го убеди да се раздели с нас, от едната любознателност, макар да отпътува например в Италия и изобщо някъде в странство. В салона, дето той специално за случая излязъл да приеме Николай Всеволодович (който друг път като роднина безпрепятствено имаше достъп в цялата къща), възпитаният Альоша Телятников, чиновник, а наред с това и приближен на губернаторското семейство, разпечатвал в ъгъла на масата писма; а в съседната стая, край най-близкия до вратата на салона прозорец, се бил разположил друг гост, един огромен дебел полковник, приятел и бивш съслуживец на Иван Осипович, и четял „Голос“[4], като не обръщал, разбира се, никакво внимание на това, което става в салона; гърбом дори седял човекът. Иван Осипович почнал със заобикалки, дори шепнешком, но все нещо се заплитал. Nicolas гледал твърде нелюбезно, съвсем не по роднински, бил блед, седял със сведен поглед и слушал със сключени вежди, сякаш преодолявал силна болка.
— Имате добро сърце, Nicolas, и благородно — вметнал между другото старецът, — имате превъзходно образование, движили сте се във висшите кръгове, пък и тук бяхте довчера за пример и дето ще рече, за утеха на майка си, която е толкова скъпа на всинца ни… И ето че всичко пак придобива един такъв загадъчен и опасен за всички колорит! Говоря като приятел на вашето семейство, като възрастен и близък човек, който искрено ви обича и комуто не бива да се сърдите… Кажете, какво ви тласка към подобни необуздани постъпки, извън всякакви общоприети условия и мерки? Какво биха могли да означават такива постъпки, извършени сякаш че като в несвяст?
Nicolas слушал нетърпеливо и с досада. И изведнъж в погледа му се мярнало нещо хитро и присмехулно.
— Добре, ще ви кажа какво ме тласка — мрачно изрекъл той, огледал се и се навел към ухото на Иван Осипович. Възпитаният Альоша Телятников се оттеглил още три крачки към прозореца, а полковникът взел да кашля зад своя „Голос“. Горкият Иван Осипович бързо и доверчиво надал ухо; страшно любопитен беше. И ето че тук тъкмо става нещо съвсем невероятно, а от друга страна, и напълно обяснимо в дадено отношение. Старецът изведнъж усетил, че вместо да му пошушне някаква интересна тайна, Nicolas изведнъж захапал със зъби и доста здраво стиснал горния край на ухото му. Иван Осипович се разтреперал и дъхът му секнал.
— Що за шеги, Nicolas — изстенал той машинално, с променен глас.
Альоша и полковникът все още не разбирали какво става, пък и не се виждало, и на тях докрая им се струвало, че двамата си шушукат; но същевременно отчаяното лице на стареца ги безпокояло. Те се гледали с опулени очи и не знаели дали да се хвърлят на помощ, както било уречено, или още да почакат. Nicolas може би забелязал това и стиснал ухото още по-силно.
— Nicolas, Nicolas — пак изстенала жертвата, — хайде… разбирам шега, но стига толкоз…
Само още един миг и горкичкият, разбира се, щял да си умре от уплаха; но извергът го помилвал и пуснал ухото. Цялата тази смъртна уплаха траяла почти една минута, след което старецът получил някакъв припадък. Но половин час по-късно Nicolas бил арестуван и отведен на първо време в гауптвахтата, където го затворили в отделна килия, с отделен часовой пред вратата. Решението беше строго, но нашият благ началник толкова се беше разсърдил, че се бе решил да поеме отговорността дори пред самата Варвара Петровна. За всеобщо изумление, когато тази дама по спешност и силно нервирана пристигнала в губернаторството за незабавни обяснения, й било отказано да я приемат и не вярвайки на очите си и ушите си, се беше прибрала у дома си, без дори да слезе от каретата.
И най-сетне всичко стана ясно! В два часа подир полунощ арестуваният, който дотогава бил удивително спокоен и дори заспал, изведнъж се развикал, почнал лудо да блъска с юмруци по вратата, с нечовешка сила откъртил желязната решетка от прозорчето на вратата, счупил стъклото и си изпорязал ръцете. Когато караулният офицер дотичал с хората си и с ключовете и наредил да отворят килията, за да хванат и вържат побеснелия, се оказало, че той бил изпаднал в страшен делириум; откарали го у дома му при майчето. И изведнъж всичко стана ясно. Нашите доктори, и тримата, дадоха мнение, че би могло болният отпреди три дни да е бил нещо като в несвяст, макар и запазвайки външно съзнание, но не и здрав разум и воля, което впрочем го потвърждаваха и самите факти. Излизаше, значи, че Липутин пръв преди всички други се е досетил. Иван Осипович, човек деликатен и чувствителен, много се сконфузи; но интересното е, че, както излиза, и той значи е считал Николай Всеволодович способен на всякаква щуротия, бидейки и със здрав разум. В клуба също се засрамиха и недоумяваха как тъй да не видят купата сено и да изтърват единственото възможно обяснение на всичките му чудесии. Намериха се, разбира се, и скептици, но бърже се предадоха.
Nicolas лежа два и нещо месеца. От Москва бе изписан известен лекар за консулт; целият град се изреди у Варвара Петровна. Тя прости. Когато запролетя, Nicolas беше вече здрав и без всякакви възражения прие предложението на майка си да замине за Италия, тя го склони и да направи на всички в града прощални визити, и при това, доколкото е възможно и където трябва, да се извини. Nicolas прие много охотно. В клуба стана известно, че се е състояло най-деликатното обяснение с Павел Павлович Гаганов и той останал напълно удовлетворен. Правейки визитите си, Nicolas беше много сериозен и дори малко мрачен. Навред го бяха приели, види се, с пълно съчувствие, но всички, кой знае защо, се конфузеха и се радваха, че отива в Италия. Иван Осипович се просълзи дори, но, кой знае защо, не се реши да го прегърне дори на сбогуване. Вярно е, че някои тъй и си останаха с убеждението, че тоя негодник просто се е присмял над всички, а болестта е някакъв фокус. Отбил се беше и у Липутин.
— Кажете — запитал го Nicolas, — как се сетихте, че ще кажа за вашия ум, та предварително снабдихте Агафя с отговор?
— Ами защото — засмял се Липутин — ви имам за разумен човек, та затова и отговора ви можах отнапред да предвидя.
— Все пак чудно съвпадение. Но я чакайте, чакайте: излиза, че като сте пращали Агафя, не сте ме смятали за луд, а за напълно разумен?
— За най-умния и разумния, само се направих, че вярвам, дето уж сте си изгубили ума… Пък тогава и самият вие тутакси ми отгатнахте мислите и ми пратихте по Агафя патент за остроумие.
— Е, тук вие малко грешите: аз наистина… не бях добре… — измърморил Николай Всеволодович и се навъсил. — Хе! — възкликнал той. — Ама вие наистина ли ме смятате за способен да налитам на хората, бидейки със здрав разум? И защо ми е да го правя?
Липутин свил глава в раменете, не можел да отговори. Nicolas малко пребледнял или поне тъй се сторило на Липутин.
— Във всеки случай мислите ви са много забавно настроени — продължил Nicolas, — а колкото до Агафя, аз, естествено, се досещам, че ми я бяхте пратили, за да ме сконфузи.
— Че на дуел ли да ви викам?
— Ах, да, тъй-тъй! Чул бях май, че не сте обичали дуелите…
— Що все като французите, все от френски! — пак свил глава Липутин.
— Държите, значи, за народността?
Липутин още повече свил глава в раменете.
— Я, я! Какво виждам! — викнал Nicolas, забелязвайки внезапно на най-видното място на масата томчето на Консидеран[5]. — Ама вие да не би случайно да сте фуриерист? Хубава работа! Добре де, ами това не е ли пак от френски? — засмял се той, тропайки с пръсти по книгата.
— Не, това не е от френски! — дори малко нещо злобно скочил Липутин. — Това е превод от общочовешки език, а не само от вашия френски! От езика на общочовешката социална република и хармония. Ясно ли ви е! А не само от вашия френски!…
— Гледай ти, ами че то такъв език изобщо няма! — продължил да се смее Nicolas.
Понякога дори някоя дреболия задълго и изключително поразява вниманието. Най-главното за господин Ставрогин тепърва има да се казва; но още отсега, заради куриоза, ще отбележа, че от всичките му впечатления, от цялото му пребиваване в нашия град най-ярко се врязва в паметта му именно невзрачната и комай подличка фигура на губернския чиновник, ревнивеца и грубия домашен деспот, скъперника и лихваря, който държеше под ключ остатъците от обяда и недоизгорелите свещи, и същевременно яростния адепт на една, господ знае каква, бъдеща „социална хармония“, който нощем се опияняваше от възторзи пред фантастичните картини на бъдещата фаланстерия, в чието предстоящо осъществяване в Русия и в нашата губерния вярваше, както в собственото си съществование. И всичко това там, където самият той беше „струпал къщичка“, дето се беше оженил повторно и беше пипнал жена с парици, дето може би на сто версти наоколо нямаше един човек, като се почне от самия него, който поне малко от малко да прилича на бъдещ член на „световната общочовешка социална република и хармония“.
„Един господ знае как стават такива хората!“ — мислеше Nicolas с недоумение, сещайки се понякога за неочаквания фуриерист.
IV
Нашият принц пътешества три и нещо години, тъй че в града го бяха почти забравили. Знаехме от Степан Трофимович, че обиколил цяла Европа, бил даже в Египет и се отбивал в Ерусалим; после се присламчил нейде към някаква научна експедиция за Исландия и действително бил в Исландия. Разправяха също, че една зима ходил на лекции в един немски университет. На майка си пишеше малко — веднъж на шестте месеца, че и по-рядко, но Варвара Петровна не се сърдеше и не се докачаше. Бе приела безропотно и покорно веднъж установените помежду им отношения, но то се знае, всеки ден през тия три години непрестанно се бе тревожила, тъгувала и мечтала за своя Nicolas. Мечтите си и тъгите си не споделяше с никого. Даже от Степан Трофимович се беше поотдръпнала май. Кроеше си някакви планове и май беше станала още по-стисната отпреди и беше почнала още повече да трупа и да се сърди за картаджийските дългове на Степан Трофимович.
Най-сетне през април тая година дойде писмо от Париж, от приятелката й от детинство, овдовялата генералша Прасковя Ивановна Дроздова.
В писмото си Праскова Ивановна — с която Варвара Петровна не се беше виждала и не си беше писала комай цели осем години — я уведомяваше, че Николай Всеволодович се сближил със семейството им, сдружил се с Лиза (единствената й дъщеря) и възнамерявал да ги съпровожда през лятото в Швейцария, във Vernex-Montreux[6], въпреки че семейството на граф К… (твърде влиятелно в Петербург лице), което пребивавало понастоящем в Париж, го било приело като роден син, тъй че той почти живеел у графа. Писмото беше кратко и целта му ясно прозираше, въпреки че освен горепосочените факти не съдържаше никакви изводи. Варвара Петровна, без много-много да му мисли, моментално реши, стегна багажа, подбра възпитаницата си Даша (сестрата на Шатов) и по средата на април потегли за Париж и после за Швейцария. Върна се през юли самичка, оставила беше Даша у Дроздови; самите Дроздови, според известията, които донесе, обещали да пристигнат в края на август.
Дроздови бяха също помешчици от нашата губерния, но службата на генерал Иван Иванович (бивш приятел на Варвара Петровна и съслуживец на мъжа й) все не позволяваше да се мярнат поне веднъж в прекрасното си имение. А след смъртта на генерала, през миналата година, безутешната Прасковя Ивановна пое с дъщеря си за странство, между впрочем и с намерението да се подложи на гроздолечение, което смяташе да предприеме във Vernex-Montreux през втората половина на лятото. А със завръщането си в отечеството възнамерявала завинаги да се засели в нашата губерния. Имаше голяма къща в града, която от години стоеше празна, със заковани прозорци. Бяха богати хора. Прасковя Ивановна, по първия си мъж госпожа Тушина, беше, както приятелката си от пансиона Варвара Петровна, дъщеря на едновремешен откупчик и като се омъжи, също беше взела голяма зестра. Бившият щабротмистър Тушин също бе човек със средства, пък и с известни способности. Умирайки, бе завещал на седемгодишната си и единствена дъщеря Лиза добри пари. Сега, когато Лизавета Николаевна беше вече двадесет и две годишна, смело можеше да се каже, че има зад гърба си около двеста хиляди рубли собствени пари, да не говорим за състоянието, което щеше да получи след време от майка си, която нямаше деца от втория си съпруг. Варвара Петровна бе, види се, твърде доволна от своето пътуване. По нейно мнение успяла да се споразумее с Прасковя Ивановна задоволително и още с пристигането си го беше разказала на Степан Трофимович; държането й било дори твърде експанзивно, което отдавна не се беше случвало.
— Ура! — провикнал се Степан Трофимович и щракнал с пръсти.
Изпаднал беше в пълен възторг, още повече че беше понесъл крайно тягостно раздялата с приятелката си. Заминавайки за странство, тя дори не се бе сбогувала с него както трябва и нищо не бе казала на „тая баба“ за плановете си, опасявайки се, че той може би ще раздрънка нещо. Тъкмо тогава му беше сърдита заради една внезапно разкрила се значителна загуба на карти. Но още в Швейцария беше усетила, че щом се върне, ще трябва да възнагради пренебрегнатия си приятел, още повече че отдавна вече се държеше с него сурово. Внезапната и тайнствена разлъка беше пробола и изтерзала плахото сърце на Степан Трофимович и из един път, сякаш по поръчка, му се бяха трупнали и други грижи. Мъчеше го едно твърде значително и отдавнашно парично задължение, което без помощта на Варвара Петровна по никой начин не можеше да се уреди. Освен това през май тази година свърши най-сетне губернаторстването на нашия добър и мекушав Иван Осипович; смениха го и дори с неприятности. След това в отсъствие на Варвара Петровна пристигна и новото ни началство, Андрей Антонович фон Лембке; заедно с това тутакси започна и една видима промяна в отношението на почти цялото ни губернско общество към Варвара Петровна, а значи и към Степан Трофимович. Във всеки случай той вече бе успял да събере няколко неприятни, макар и ценни наблюдения и май доста се бе умърлушил без Варвара Петровна. С тревога подозираше, че вече са донесли за него на новия губернатор като за опасен човек. С положителност беше научил, че някои от нашите дами възнамеряват да прекратят визитите си у Варвара Петровна. За бъдещата губернаторша (очакваха я чак през есента) твърдяха, че макар да се чувало, че била надута, била пък истинска аристократка, а не „някаква си окаяна Варвара Петровна“. Кой знае откъде на всички им беше най-достоверно известно и с подробности известно, че новата губернаторша и Варвара Петровна се били срещали още навремето във висшето общество и се разделили враждебно, тъй че дори споменаването на госпожа Фон Лембке щяло уж да направи на Варвара Петровна болезнено впечатление. Бодрият и победоносен вид на Варвара Петровна, презрителното равнодушие, с което изслуша за мнението на нашите дами и за вълнението на обществото, възкресиха падналия дух на уплашения Степан Трофимович и тутакси го развеселиха. Дори беше взел да й описва пристигането на новия губернатор с една особено приповдигната и угодлива ирония.
— Вие, excellente amie[7], безспорно знаете — каза той, кокетничейки и превзето разтягайки думите — какво значи руски администратор изобщо и особено какво значи нов руски администратор, тоест новоизпечен, новоназначен… Ces interminables mots russes!…[8] Но надали сте имали случая да разберете на практика какво значи административен възторг, що за чудесия е това?
— Административен възторг ли? Не знам какво е това.
— Тоест… Vous savez chez nous… En un mot[9], турете някое най-последно нищожество да продава някакви глупави билети за влака и като идете да си купите билет, това нищожество тутакси ще се усети, че е в правото си да ви гледа като Юпитер, pour vous montrer son pouvoir[10]. „Чакай сега, значи, да ти покажа кой съм аз…“ И това стига у тях до административен възторг… En un mot, четох например, че в една от нашите черкви в странство някакво си дяконче — mais c’est tres curieuz[11] — изгонва, тоест буквално изгонило, от черквата едно чудесно английско семейство, les dames charmantes[12], преди великопостната литургия — vous savez ces chants et le livre de Job…[13] — единствено под предлог, че „къде дават така чужденците да се шматкат по руските църкви, както им дойде, да идвали, когато е казано…“ и ги докарало до припадък… Туй дяконче е имало пристъп на административен възторг et il a montre son pouvoir…[14]
— По-накъсо, ако може, Степан Трофимович.
— Господин Фон Лембке тръгна сега из губернията. En un mot, този Андрей Антонович, нищо че е руски немец от православните и дори — хайде, признавам му го — извънредно красив мъж е, от ония четирийсетгодишни…
— Че откъде пък накъде красив мъж? Очите му са като овнешки.
— Във висша степен. Но хайде, от мен да мине, отстъпвам пред мнението на нашите дами…
— Да обърнем листото, Степан Трофимович, моля ви! Впрочем откога сте почнали да ходите с червена връзка?
— Аз това… само за днеска…
— А правите ли си моциона? Ходите ли ежедневно на разходка от шест версти, както ви е предписал докторът?
— Не… не винаги.
— Знаех си го! Още в Швейцария го предчувствах! — нервно викна тя. — Сега не по шест, а по десет версти ще ходите! Ужасно сте се занемарили, ужасно, уж-жасно! И не че сте остарели, ами сте одъртели… аз се слисах още одеве, като ви видях, въпреки червената ви връзка… quelle ideo rouge![15] Продължете за Фон Лембке, ако наистина има какво да кажете, и свършвайте, моля ви… уморена съм.
— En un mot, исках само да кажа, че той е един от ония администратори, които започват да правят кариера на четирийсет години; от тия, дето до четирийсетте никой не ги брои за хора, а после изведнъж пробиват нагоре, я като се снабдят с подходяща съпруга, я с помощта на някое друго средство от тоя род… Сиреч сега той замина… сиреч искам да кажа, че мене тутакси са ме наклепали пред него, че съм развращавал младежта и съм бил разсадник на губернския атеизъм… Той веднага взел да разпитва.
— Ама дали пък е вярно?
— Аз дори взех мерки. А като му „до-ло-жили“, че вие сте „управлявали губернията“, vous savez[16], си позволил да каже, че „това вече нямало да го бъде“.
— Така казал?
— Че „това вече нямало да го бъде“, и avec cette morgue…[17] Жена му, Юлия Михайловна, ще ни ощастливи в края на август, идвала право от Петербург.
— От странство. Срещнах се с нея.
— Vraiment?[18]
— В Париж и в Швейцария. Роднина е с Дроздови.
— Роднина ли? Какво чудесно съвпадение! Разправят, че била честолюбива и… уж че с големи връзки?
— Вятър, връзчици! До четирийсет и пет се момя, пукнат грош няма, а сега се лепна за тоя Фон Лембке и, разбира се, едничката й цел е да го издигне. И двамата са интриганти.
— И била, казват, две години по-стара от него?
— Пет. Майка й в Москва ми беше изтъркала прага; на четири лазеше да я поканя на моите балове, още по времето на Всеволод Николаевич. А тая по цяла нощ чакаше някой да я покани, дордето към три часа вече не се принудех да я съжаля и да й пратя някой кавалер. Двайсет и пет ги беше навъртяла, а все с къси роклички като момиченце я водеха и с тюркоаз на челото. То беше станало неприлично да ги кани човек.
— Сякаш я виждам с тая рокличка и с тюркоаза.
— Та ви казвам, пристигам и направо се сблъсквам с интрига. Нали прочетохте писмото на Дроздова, къде по-ясно? Но какво сварвам? Тая глупачка Дроздова — винаги си е била само една глупачка — изведнъж почва да ме гледа въпросително: един вид, какво търся там? Представяте ли си колко бях изненадана! Гледам, там се върти тази Лембке, а с нея и оня кузен, племенникът на стария Дроздов — всичко е ясно! Разбира се, моментално обърнах нещата и Прасковя пак мина на моя страна, но интригата, интригата!
— Която вие обаче победихте. О, вие сте Бисмарк!
— И без да съм Бисмарк, мога да позная фалша и глупостта, където и да ги срещна. Лембке е фалшът, а Прасковя — глупостта. Рядко съм срещала по-разкисната жена, та не стига това, ами и краката й отекли, че на туй отгоре и добра. Какво по-глупаво от глупав добряк?
— Злият глупак, ma bonne amie[19], злият глупак е по-глупав — благородно опонира Степан Трофимович.
— Може и да сте прав, Лиза, нали я помните?
— Charmante enfant![20]
— Но сега вече не е enfant, а жена, и то жена с характер. Благородна и пламенна, и ми харесва, дето не прощава на оная доверчива глупачка майка си, знаете ли, че заради тоя кузен едва не стана цяла история.
— Ама той наистина не е никакъв роднина на Лизавета Николаевна… Да няма някакви намерения?
— Вижте какво, това е един млад офицер, крайно неразговорчив, дори скромен. Искам винаги да съм справедлива. Струва ми се, че самият той е против тази интрига и не иска нищо, а кроежите са само на тая Лембке. Той много уважаваше Nicolas. Нали разбирате, всичко зависи само от Лиза, но аз я оставих в превъзходни отношения с Nicolas и той ми обеща непременно да си дойде през ноември. Сиреч интригите ги крои единствено Лембке, а Прасковя е просто една сляпа жена. Изведнъж ми съобщава, че всичките ми подозрения били фантазия; в очите й го казах, че е глупачка. И пред Страшния съд съм готова да го потвърдя. И ако не бяха молбите на Nicolas да поизчакам малко, нямаше да мръдна оттам, докато не изкарам наяве оная фалшива жена. Тя чрез Nicolas и пред граф К. се докарвала, майка и син искаше да скара. Но Лиза е на наша страна, а с Прасковя съм се разбрала. Ами знаете ли, че Кармазинов й бил роднина?
— Какво? Роднина на мадам Фон Лембке?
— Ами да, неин. Далечен.
— Кармазинов новелистът?
— Ами да, писателят, какво се чудите? Разбира се, той сам се смята за велик. Надута твар! Ще пристигнели заедно, а сега се върти там край него. Възнамерявала да почне нещо тука, някакви литературни сбирки. Той идва за един месец, искал да продава последното си имение. Насмалко да се срещнем с него в Швейцария, което много не ми се щеше. Впрочем надявам се, че ще ме удостои да си спомни коя съм. Навремето писма ми пишеше, у дома е идвал. Аз бих искала да се обличате по-добре, Степан Трофимович; вие от ден на ден ставате все по-небрежен… О, как ме измъчвате! Какво четете сега?
— Аз… аз…
— Разбирам. Пак приятели, пак чашката, клубът, картите и репутацията на атеист. На мен тази репутация не ми харесва. Степан Трофимович. Не бих искала да ви наричат атеист, особено сега не бих го искала. Аз и преди не го исках, защото всичко това са само празни приказки. Трябваше най-сетне да ви го кажа.
— Mais, ma chère…
— Вижте какво, Степан Трофимович, по учението аз, разбира се, съм пред вас невежа, но като пътувах насам, много мислих за вас. И стигнах до едно убеждение.
— И до какво?
— До такова, че ние с вас не сме най-умните на този свят, ами има и по-умни от нас.
— И остроумно, и точно. Щом има по-умни, има значи и поправи от нас, следователно и ние можем да грешим, нали така? Mais, ma bonne amie, да допуснем, че сгреша, но нали го имам мойто общочовешко, вечно, върховно право на свободна съвест? Нали имам правото да не бъда лицемер и фанатик, ако не го желая, а щом е тъй, естествено ще бъда мразен от разни господа до края на живота си. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison[21], и тъй като съм напълно съгласен с това…
— Как, как го казахте?
— Казвам, че on trouve toujours plus de moines que de raison — и тъй като аз съм…
— Това май не е ваше: трябва да сте го взели отнейде?
— Това го е казал Паскал.
— Тъй си и мислех… че не сте вие! Защо самият вие никога не се изразявате така кратко и ясно, а винаги го усуквате? Това е къде по-хубаво, отколкото одеве за административния възторг…
— Защо ли… ma foi[22], chère? Ами, първо, вероятно защото аз все пак не съм Паскал, et puis…[23] второ, ние, руснаците, нищо не умеем да кажем на своя език… Във всеки случай поне досега нищо още не сме казали…
— Хм! Това може би е невярно. Във всеки случай поне да бяхте записвали и запомняли такива думи, нали знаете, в случай на разговор… Ах, Степан Трофимович, аз идвах сериозно, сериозно да си поговорим!
— Chère, chère amie![24]
— Сега, когато всичките тия Лембке, всички тия Кармазинови… О, боже, как сте се занемарили! О, как ме измъчвате!… Аз бих искала всичките тези хора да изпитват към вас уважение, защото не могат да ви се хванат на малкия пръст, а как се държите вие? Какво ще видят те? Какво ще им покажа? Вместо благородно да стоите като един образец, като продължител на примера, вие се заобикаляте с някаква сган, придобили сте някакви невъзможни навици, одъртели сте, вече не можете без вино и без карти, четете единствено Пол дьо Кок и нищо не пишете, докато всички те пишат; всичкото ви време отива в празни приказки. Може ли, допустимо ли е да се имате с такъв долен човек като вашия неразлъчен Липутин?
— Защо пък мой и неразлъчен! — плахо протестира Степан Трофимович.
— Къде е той сега? — строго и троснато продължаваше Варвара Петровна.
— Той… той безгранично ви уважава и замина за С-к, да получава наследството от майка си.
— Той, изглежда, друго не прави, освен да получава пари. А Шатов? Все същото?
— Irascible, mais bon.[25]
— Не мога да го понасям вашия Шатов; хем зъл, хем за много се има!
— Как е със здравето Даря Павловна?
— Даша ли? Какво така се сетихте изведнъж? — погледна го любопитно Варвара Петровна. — Здрава е, у Дроздови я оставих… В Швейцария чувах нещо за сина ви, лошо, а не хубаво.
— Oh, c’est une histoire bien bête! Je vous attendais, ma bonne amie, pour vous raconter…[26]
— Стига, Степан Трофимович, уморих се вече; измъчих се. Ще успеем да се наговорим, особено за лошото. От вас почват да хвърчат слюнки, като се засмеете, това е вече някаква дъртащина! И колко странно сте почнали да се смеете… Боже, какви лоши навици сте придобили! Кармазинов няма да стъпи у вас. А тук и без това на най-малкото се радват… Сега вие цял се показахте вече. Хайде, стига, стига, уморих се! Смилете се най-сетне, и аз съм човек!
Степан Трофимович се „смили над човека“, но се оттегли смутен.
V
Нашият приятел действително бе завъдил доста лоши навици, особено напоследък. Той видимо и бързо се беше отпуснал и наистина се беше занемарил. Пиеше, станал беше по-плачлив, по-слабонервен и някак прекалено чувствителен към изящното. Лицето му бе придобило странната способност необикновено бързо да променя израза си — от най-тържествен на най-смешен и дори глупав. Не понасяше самотата и непрекъснато чакаше час по-скоро да го развлекат. Трябваше непременно да му разкажеш някоя градска клюка или случка, и при това всеки ден нова. Ако дълго време не идваше никой, той тъжно се луташе по стаите, отиваше до прозореца, умислено дъвчеше устни, въздишаше дълбоко, а накрая малко оставаше да захленчи. Все предчувстваше нещо, все се боеше от нещо неочаквано, неминуемо; взе да става плашлив; взе да обръща голямо внимание на сънищата.
Целия този ден и вечерта ги беше прекарал извънредно печално, пратил бе да ме викат, много се вълнуваше, дълго говори, дълго разказва, но всичко твърде несвързано. Варвара Петровна отдавна вече знаеше, че той нищо не крие от мен. Накрая ми се стори, че го тревожи нещо особено, нещо такова, което май и самият той не може да си представи. По-рано, когато се срещахме насаме и почнеше да ми се оплаква, накрая почти винаги се донасяше бутилчица и бързо се утешавахме. Тоя път обаче нямаше пиене и той нееднократно потискаше желанието си да прати да донесат.
— И какво все ми се сърди! — оплакваше се той час по час като дете. — Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des комарджии et des пияници, que boivent en zapoi…[27], а аз все още не съм нито такъв комарджия, нито такъв пияница… Кори ме, защо не съм пишел? Странна мисъл!… Защо лежа? Вие, казва, трябва да сте „на упрек живо въплъщение“. Mais, entre nous soit dit[28], какво му остава на човек, комуто е предначертано да бъде „живо въплъщение“, освен да лежи — знае ли го тя това?
И накрая ми стана ясна онази главна, особена болка, която тъй натрапчиво го мъчеше тоя път. Тая вечер той много пъти ходи до огледалото и дълго се застоява пред него. Накрая се обърна към мен и с някакво странно отчаяние продума:
— Mon cher, je suis un[29] одъртял човек!
Да, наистина, досега, до тоя им днешен разговор имаше едно-единствено нещо, в което си оставаше сигурен въпреки всички „нови възгледи“ и всички „промени на идеите“ на Варвара Петровна — сигурен беше в чара си, в обаянието си, и то не само на изгнаник или прочут учен, но и на един красив мъж. Двайсет години бе живял с това ласкателно и утешително убеждение и може би му бе най-трудно да се раздели именно с това си убеждение. Дали тая вечер е предчувствал какво колосално изпитание му се готвеше в едно твърде близко бъдеще?
VI
А сега ще пристъпя към описанието на онзи отчасти забавен случай, с който всъщност започва истински хрониката ми.
В края на август най-сетне се завърнаха и Дроздови. Появата им малко изпревари пристигането на отдавна очакваната от целия град тяхна роднина, нашата нова губернаторша, и изобщо направи изключително впечатление на обществото. Но за всички тия интересни събития ще разкажа по-нататък; сега ще се огранича само с това, че Прасковя Ивановна донесе на тъй нетърпеливо очакващата я Варвара Петровна една крайно главоболна гатанка: Nicolas се разделил с тях още през юли и като се срещнал на Рейн с граф К., заминал заедно с него и семейството му за Петербург. (NB И трите дъщери на графа бяха за женене.)
— От Лизавета, каквато е горда и опърничава, нищо не изкопчих — завърши Прасковя Ивановна, — но с очите си го видях, че между нея и Николай Всеволодович е станало нещо. Не знам причините, но, изглежда, ще се наложи вие, мила моя Варвара Петровна, да поизпитате за причината вашата Даря Павловна. Ако питате мен — Лиза е била обидена. Много ми е драго, че ви доведох вашата фаворитка и ви я предавам здрава и читава, та да ми олекне най-сетне.
Тия отровни думи бяха произнесени крайно раздразнено. Виждаше се, че „разкиснатата жена“ си ги беше приготвила отнапред и предварително се е наслаждавала на ефекта. Но не беше Варвара Петровна тая, която можеха да поставят натясно със сантиментални ефекти и гатанки. Тя строго поиска най-точни задоволителни обяснения. Прасковя Ивановна моментално свали тона и дори свърши с това, че се разплака и го удари на най-приятелски излияния. Тази раздразнителна, но сантиментална дама също като Степан Трофимович непрекъснато се нуждаеше от истинско приятелство и главното й оплакване от Лизавета Николаевна се състоеше тъкмо в това, че „дъщеря й не й е приятелка“.
Но от всички нейни обяснения и излияния точно се оказа единствено това, че между Лиза и Nicolas наистина е имало някакво спречкване, но Прасковя Ивановна не бе могла да си състави точна представа що за спречкване е било. А колкото до обвиненията, хвърлени срещу Даря Павловна, накрая тя не само че ги оттегли, но дори специално помоли да не се придава никакво значение на одевешните й думи, защото ги била казала „в яда си“. С една дума, всичко излизаше много неясно и дори подозрително. Според нейния разказ спречкването почнало от „опърничавия и подигравчийски“ характер на Лиза, „а пък гордият Николай Всеволодович, макар и много влюбен, не могъл да понесе насмешките и самият той станал насмешлив“.
— Скоро след това се запознахме с един младеж, май че племенник на вашия „професор“, пък и имената съвпадат…
— Син, не племенник — поправи я Варвара Петровна. Прасковя Ивановна открай време не можеше да запомни името на Степан Трофимович и все го наричаше „професора“.
— Нейсе, син да бъде, още по-добре, мен ми е все едно. Най-обикновен младеж, доста жив и свободен, но инак нищо особено. Е, тука вече Лиза попрекали, уж че взе да прикотква младежа, та да възбуди у Николай Всеволодович ревност. Ама аз това не го осъждам много; момински работи, нещо обикновено и дори мило. Само че Николай Всеволодович, вместо да изревнува, напротив, взе, че се сприятели с младежа, сякаш че нищо не вижда или пък ужким че му е все едно. А Лиза това не го изтрая. Младежът скоро след туй замина (много бързаше за някъде), а Лиза захвана при всеки удобен случай да се заяжда с Николай Всеволодович. Забелязала, че те понякога си говорят с Даша, взе да щръклее, че да ти кажа, сестро, и на мен ми стана черен животът. Докторите са ми забранили да се нервирам, това тяхно прехвалено езеро и без това ми беше омръзнало, само дето ревматизъм получих и зъбите ме заболяха от него. То го пише дори, че от Женевското езеро ставал зъбобол; свойството му било такова. Тъкмо тогава Николай Всеволодович внезапно получи писмо от графинята и тутакси си тръгна, за един ден се приготви. Вярно, сбогувахме се приятелски, пък и Лиза, като го изпращаше, беше уж весела, лекомислена и все на смях я избиваше. Само че всичко това са преструвки. Щом си замина, изведнъж стана много замислена, пък и съвсем престана да споменава за него, че и на мен не ми даваше. Аз и вас бих ви съветвала, мила Варвара Петровна, да не подкачате Лиза по тоя въпрос, само ще навредите. Мълчите ли си, тя първа ще ви заговори; повече ще научите. Според мен пак ще се сдобрят, стига само Николай Всеволодович да не се забави да дойде, както обеща.
— Още сега ще му пиша. Ако е тъй, значи всичко е едно нищо и половина. Чисти глупости! Пък и Даря си я знам аз; глупости.
— За Дашенка, признавам си, сбърках. Само едни най-обикновени разговори, и то най-открито. Ама тогава много се бях разстроила, сестро. Пък нали видях, че и Лиза пак се сближи с нея, както преди…
Варвара Петровна още същия ден писа на Nicolas, умолявайки го да се прибере поне месец преди определения срок. И все пак във всичко това за нея си оставаше нещо тъмно и неизвестно. Цялата тази вечер и цялата нощ мисли и премисля. Мнението на Прасковя й се струваше твърде наивно и сантиментално. „Прасковя цял живот си е била твърде чувствителна, още от пансиона — мислеше тя, — не е такъв Nicolas, че да се докачи от насмешките на едно момиче. Ако наистина са скъсали, друга ще е била причината. Тоя офицер обаче го доведоха тук със себе си и се е настанил в къщата им като роднина. Пък и за Даря нещо много бързо се покая Прасковя: ще рече, премълчала е нещо, нещо, дето не щя да го каже…“
На разсъмване у Варвара Петровна съзря проект с един удар да свърши поне с едно от недоуменията си — проект забележителен по своята неочакваност. Какво е изпитвала, когато го е създавала — трудно е да се каже, пък и не се наемам предварително да тълкувам всички противоречия, от които се състоеше. Като хроникьор се ограничавам само с това, да изложа събитията в точния им вид, точно така, както бяха станали, и не е моя вината, ако изглеждат невероятни. Длъжен съм обаче още веднъж да засвидетелствам, че до сутринта у нея не бяха останали никакви подозрения спрямо Даша, а което е право, никога и не бе ги имало; твърде сигурна беше тя в нея. Пък и изобщо не допущаше мисълта, че нейният Nicolas може да се увлече по нейната… Даря. Сутринта, когато Даря Павловна наливаше чая на чайната масичка, Варвара Петровна я гледа дълго и втренчено и може би за двайсети път от вчера насам уверено си каза наум: „Вятър работа!“
Забеляза само, че Даша изглежда някак уморена и че е още по-свита отпреди, още по-апатична. След чая, според установения веднъж завинаги обичай, двете седнаха да бродират. Варвара Петровна поиска да й даде пълен отчет за впечатленията от странство, предимно за природата, жителите, градовете, обичаите, изкуството им, промишлеността — за всичко, което е успяла да забележи. Нито един въпрос за Дроздови и за живота с Дроздови. Даша, която седеше до нея на работната й масичка — помагаше в бродерията, вече цял половин час разказваше със своя равен, еднообразен, но малко слаб глас.
— Даря — прекъсна я изведнъж Варвара Петровна, — нямаш ли нещо такова, по-особено, което би искала да ми кажеш?
— Не, нищо — помисли мъничко Даша и погледна Варвара Петровна със светлите си очи.
— В душата, в сърцето, на съвестта?
— Нищо — тихо, но с някаква мрачна сигурност повтори Даша.
— Тъй си го знаех! Знай, Даря, че аз никога няма да се усъмня в тебе. Сега седи и слушай. Мини на този стол, седни отсреща, искам цялата да те виждам. Така. Слушай сега — искаш ли да се омъжиш?
Даша отвърна с дълъг въпросителен поглед, впрочем не твърде учуден.
— Чакай, мълчи. Първо има разлика в годините, много голяма; но ти най-добре знаеш, че това са глупости. Ти си разумна и в твоя живот не бива да станат грешки. Впрочем той още е красив мъж… С една дума, Степан Трофимович, когото ти винаги си уважавала. А?
Даша погледна още по-въпросително и този път не само се учуди, но и силно се изчерви.
— Чакай, мълчи; не бързай! Ти, макар и да имаш пари по моето завещание, но умра ли аз, какво ще стане с тебе, па било и с пари? Ще те излъжат, ще ни вземат парите и точка — загиваш. А омъжиш ли се за него, ставаш жена на известен човек. Гледай сега от другата страна: умра ли аз сега — макар и да го осигуря, — какво ще стане с него? А аз разчитам на тебе. Чакай, не съм свършила: той е лекомислен, той е мухльо, жесток, егоист, с лоши навици, но ти ще го цениш преди всичко защото ги има и много по-лоши от него. Ти да не би да си мислиш, че искам да се отърва от тебе, та съм тръгнала да те харизвам на някакъв мръсник? А главното — ще го цениш, защото аз го искам — отсече тя нервно, — чуваш ли? Какво си се вторачила?
Даша все мълчеше и слушаше.
— Чакай, потрай малко! Той е баба — толкоз по-добре за тебе. Жалка впрочем баба; ей толкова не заслужава да го обича една жена. Но заслужава да го обичат заради неговата беззащитност, и ти го обичай за тая му беззащитност. Нали ме разбираш? Разбрали ме?
Даша утвърдително кимна.
— Тъй си го знаех, на по-малко не съм и разчитала. Той ще те обича, защото е длъжен, длъжен; да те обожава, е длъжен — някак особено нервно изписка Варвара Петровна. — Впрочем той и без да е длъжен, ще се влюби в тебе, нали го зная. Освен това аз ще съм тука. Не се бой, аз винаги ще съм тука. Той ще почне да се оплаква от тебе, ще тръгне да те клевети, ще си шушука за тебе с първия срещнат, ще хленчи, вечно ще хленчи; писма ще ти пише от едната стая в другата, по две писма на ден, но пак няма да може без тебе, а тъкмо това е главното. Накарай го да те слуша; не съумееш ли го накара — никой не ти е крив. Ще тръгне да се беси, ще заплашва — не вярвай; вятър и мъгла! Не вярвай, ама все пак имай едно наум, току-виж, щукне му нещо и се обесил; тъкмо с такива се случва; не от сила, от слабост се бесят; и затова никога не го докарвай до ръба — това е първото правило в съпружеството. Помни също, че е поет. Чуй ме, Даря, няма по-голямо щастие от това, да се жертваш. Пък освен туй ще ми направиш голямо удоволствие, а това е главното. Не си мисли, че от глупост ги дрънкам тия; зная какво говоря. Аз съм егоистка, и ти бъди егоистка. Аз не те насилвам; всичко е в ръцете ти, както кажеш, тъй ще стане. Е, какво седиш, кажи нещо де!
— Ами на мен ми е все едно, Варвара Петровна, щом непременно трябва да се омъжвам — твърдо каза Даша.
— Непременно ли? Ти за какво намекваш? — строго и втренчено я погледна Варвара Петровна.
Даша мълчеше, чоплейки с иглата в гергефа.
— Ти макар и умна, ама току изплещиш нещо. То си е вярно, че съм си наумила непременно да те омъжа сега, ама не по необходимост, а само защото тъй ми е хрумнало, и единствено за Степан Трофимович. Да не беше Степан Трофимович, нямаше да помисля да те омъжвам сега, макар и да си вече на двайсет години… Е?
— Ами както решите, Варвара Петровна.
— Значи — съгласна! Чакай, мълчи, къде бързаш, не съм свършила; ти по завещанието ми имаш от мене петнайсет хиляди рубли. Ще ти ги дам още сега, след венчавката. От тях осем хиляди ще му ги дадеш, тоест не на него, а на мен. Той има осем хиляди борч; аз ще го изплатя, но той трябва да знае, че е от твоите пари. Седем хиляди ще останат у тебе на ръка, но да не си посмяла да му дадеш някога. Борчовете му никога недей плаща. Платиш ли веднъж — сетне няма отърване. Впрочем аз винаги ще съм тука. Ще получавате от мен ежегодно по хиляда и двеста рубли издръжка, а с екстрените — хиляда и петстотин, извън жилището и храната, които ще са пак от мен, така както и той ги има сега. Само прислугата ще си я поемете вие. Годишните пари ще ти ги давам наведнъж само на тебе. Но бъди човек: давай му понякога нещичко, и на приятелите му позволявай да идват веднъж седмично, зачестят ли, гони ги. Но и аз ще съм тука. Ако пък умра, издръжката ви няма да се прекрати до самата му смърт, чуваш ли, до неговата смърт, защото това е негова издръжка, а не твоя. А на теб освен сегашните седем хиляди, които ще ти стоят непокътнати, стига само да не сглупиш, още осем хиляди в завещанието ще ти оставя. И повече от мен нищо няма да получиш, трябва да си го знаеш. Е, съгласна ли си? Ще кажеш ли най-после нещо?
— Аз вече казах, Варвара Петровна.
— Знай само, че имаш пълна свобода, както кажеш, така ще стане.
— Само едно, Варвара Петровна, мигар Степан Трофимович ви е говорил вече нещо?
— Не, не ми е говорил и нищо не знае, но… ей сега ще заговори.
Тя мигновено скочи и наметна черния си шал. Даша пак се изчерви, следвайки я с въпросителен поглед. Варвара Петровна изведнъж се обърна към нея с пламнало от гняв лице.
— Глупачка! — нахвърли се тя отгоре й като ястреб. — Неблагодарна глупачка! Какви си ги мислиш? Наистина ли си мислиш, че аз ще тръгна да те компрометирам, та макар ей толкоз да било! Лично той на колене ще пълзи да те моли, от щастие ще примира, разбра ли как ще го наредя! Ти не знаеш ли, че няма да оставя да те подмятат! Или си мислиш, че ще те вземе заради тия осем хиляди, а аз сега тичам да те продавам? Глупачка с глупачка, всички сте едни неблагодарни глупачки! Я ми дай чадъра!
И пеша по мокрите тухлени тротоари и по дървената настилка полетя към Степан Трофимович.
VII
Туй е вярно, че нямаше да остави да подмятат Даря, напротив, тъкмо сега тя се смяташе за нейна благодетелка. Най-благородното и безупречно негодувание пламна в душата й, когато, намятайки шала, беше доловила смутения и недоверчив поглед на възпитаницата си. Тя искрено я обичаше още от малка. Прасковя Ивановна справедливо беше нарекла Даря Павловна нейна фаворитка. Варвара Петровна много отдавна и веднъж завинаги си беше решила, че „Дариният характер не прилича на братовия“ (тоест на характера на брат й Иван Шатов), че е тиха и кротка, способна на голяма саможертва, че се отличава с преданост, необикновена скромност, рядко срещана разсъдливост й, главното, с признателност. До този момент Даша като че ли оправдаваше всичките й очаквания. „В този живот няма да има грешки“, каза си Варвара Петровна, когато момичето беше още дванайсетгодишно, и тъй като беше склонна упорито и страстно да се привързва към всяка запленила я мечта, към всяко свое ново предначертание, към всяка мисъл, която й се стореше светла, тутакси бе решила да възпитава Даша като родна дъщеря. Незабавно й задели пари за зестра и покани гувернантка — мис Кригс, която живя у тях до шестнайсетата година на възпитаницата си, когато, кой знае защо, внезапно я бяха освободили. Идваха учители от гимназията, сред тях и един истински французин, който научи Даша на френски. И него бяха освободили внезапно, почти го изгониха. Една изпаднала в нашия град осиромашала дама, вдовица от благородно потекло, я учеше на пиано. Но главният педагог беше Степан Трофимович. Той всъщност пръв откри Даша: беше почнал да учи свитото дете още когато на Варвара Петровна и през ум не й беше минавало. Пак повтарям: чудна работа, как се привързваха към него децата! Лизавета Николаевна Тушина беше негова ученичка от осмата до единайсетата си година (то се знае, Степан Трофимович я учеше без възнаграждение и в никакъв случай не би го приел от Дроздови). Но самият той се бе влюбил в прелестното дете и му разказваше някакви поеми за устройството на света, земята, за историята на човечеството. Лекциите му за първобитните народи и първобитния човек бяха по-занимателни от арабска приказка. Лиза, която примираше за тия му разкази, извънредно смешно имитираше Степан Трофимович пред домашните си. Той научи за това и веднъж я беше издебнал. Сконфузената Лиза се хвърли в прегръдките му и заплака. Степан Трофимович също — от умиление. Но Лиза скоро замина и остана само Даша. Когато почнаха да идват учителите, Степан Трофимович прекрати своите уроци и лека-полека изобщо престана да й обръща внимание. Тъй продължи доста време. Но веднъж, когато беше станала вече на седемнайсет, внезапно го порази нейната миловидност. Това се случи на трапезата у Варвара Петровна. Той заговори с младото момиче, беше много доволен от отговорите и завърши с предложението да изнесе сериозен и обширен курс по история на руската литература. Варвара Петровна се отзова похвално и му благодари за чудесната мисъл, а Даша беше във възторг. Степан Трофимович почна усилено да се готви за лекциите и най-сетне денят дойде. Започнаха с най-древния период; първата лекция минала увлекателно; Варвара Петровна присъствала. Когато Степан Трофимович завършил и отивайки си, обявил на ученичката, че следващия път ще пристъпи към разбор на „Слово за полка Игорев“, Варвара Петровна изведнъж станала и обявила, че повече лекции няма да има. Степан Трофимович бил шокиран, но си премълчал, Даша пламнала; тъй свършило начинанието. Това се бе случило точно три години преди сегашното най-неочаквано хрумване на Варвара Петровна.
А горкичкият Степан Трофимович си седеше самичък и нищичко не предчувстваше. Обзет от тъжни размисли, отдавна надзърташе през прозореца дали няма да дойде някой познат. Но никой не идваше. Навън ръмеше, захлаждаше се; трябваше да се пали печка; той въздъхна. И внезапно едно страшно видение се изпречи пред погледа му: Варвара Петровна, в такова време и в тоя необичаен час! И пеша! До такава степен беше поразен, че забрави да се преоблече и я прие, както си беше, с вечната си подплатена розова пижама.
— Ma bonne amie!… — тихо възкликна той насреща й.
— Добре, че сте сам: не мога да ги понасям тия ваши приятели! Вечно задимено; боже, що за въздух! И чая не сте си изпили, а отива към дванайсет! Вашето блаженство е безредието! Вашата наслада — боклукът! Какви са тия накъсани хартийки по пода! Настася, Настася! Какво прави тая вашата Настася? Я, мила моя, отвори прозорци, прозорчета, вратите, широко ги отвори. А ние ще минем в гостната; дошла съм по работа. Че пък вземи, че помети де, поне веднъж в живота помети, мила моя!
— Много боклучат, значи! — нервозно и жаловито изписука Настася.
— Пък ти мети, по петнайсет пъти на ден мети! Гостната ви нищо не струва (когато влязоха в гостната). По-хубаво затворете вратата, онази ще вземе да подслушва. Непременно трябва да се сменят тапетите. Нали ви пратих майстора с мострите, защо не си избрахте? Седнете и слушайте. Седнете най-после де, моля ви. Къде? Къде? Къде!
— Един момент… — викна от другата стая Степан Трофимович — ето ме пак тук!
— А, преоблекли сте се! — огледа го тя насмешливо. (Беше си метнал сюртука върху пижамата.) — Тъй наистина по ще прилича на приказката ни. Че седнете най-сетне де, моля ви.
Обясни му всичко наведнъж, троснато и убедително. Намекна и за осемте хиляди, които донемайкъде му трябваха. Подробно разправи за зестрата. Степан Трофимович се пулеше и трепереше. Чуваше всичко, но май не го схващаше. Понечваше да каже нещо, но гласът му пресекваше. Знаеше само, че всичко ще стане, както казва тя, че да възразява и да не се съгласява, е празна работа и че той е вече безвъзвратно един женен човек.
— Mais, ma bonne amie! За трети път и на моята възраст… и за такова дете! — проговори той най-накрая. — Mais c’est une enfant![30]
— Дете на двайсет години, слава богу! Не въртете очи, моля ви, не се намирате на сцената. Вие сте много умен и учен, но нищичко не разбирате от живота, подире ви постоянно трябва да върви бавачка. Какво ще стане с вас, като умра? А тя ще ви бъде добра бавачка; тя е момиче скромно, сигурно, разумно; освен това и аз съм тука, няма да умра веднага, я. Тя е къщовница, кротка като ангел. Тая щастлива мисъл ми е идвала още в Швейцария. Разбирате ли вие, щом самата аз ви го казвам, че е кротка като ангел! — викна тя изведнъж яростно. — У вас е мръсно, тя ще въведе чистота, ред, всичко ще свети като огледало… Ама вие какво, да не си въобразявате, че с такова съкровище трябва да седна да ви моля, да ви изреждам изгодите, да ви сватосвам! Ами че вие би трябвало на колене… О, вятърничав, вятърничав, малодушен човек!
— Но… аз съм вече старец!
— Какво са вашите петдесет и три години! Петдесет години не са краят, а половината на живота. Вие сте красив мъж и го знаете. Знаете също как ви уважава. Ще взема да умра, какво ще стане с нея? А с вас — и тя ще е спокойна, и аз ще съм спокойна. Вие сте човек с положение, име, добро сърце; ще получавате издръжката си, която аз считам за свой дълг. Вие може би ще я спасите, ще я спасите! Във всеки случай ще й направите чест. Ще я подготвите за живота, ще й развиете чувствата, ще й насочите мислите. Малцина ли загиват сега, защото им са зле насочени мислите. Тъкмо ще успеете да завършите и съчинението си и отведнъж ще напомните за себе си.
— Аз тъкмо — избъбри той, вече подкупен от хитрото ласкателство на Варвара Петровна, — аз тъкмо се каня сега да се заловя с моите „Разкази из испанската история“…[31]
— Ето, виждате ли, тъкмо навреме.
— Но… тя? Казали ли сте й!
— За нея не се безпокойте, пък и няма какво да любопитствате. Разбира се, ще трябва вие лично да я помолите, да я измолите да ви окаже чест, разбрахте ли ме? Но не се безпокойте, и аз ще съм тука. Освен това вие я обичате…
На Степан Трофимович му се зави свят; стените се завъртяха. Тук се криеше една страшна идея, с която той никак не можеше да се справи.
— Excellente amie! — разтрепера се изведнъж гласът му. — Аз… аз никога не съм можел да си представя, че вие ще решите да ме дадете… на друга… жена!
— Вие не сте мома, Степан Трофимович; само момите ги дават, а вие самичък се жените — ядно отсече Варвара Петровна.
— Oui, j’ai pris un mot pour un autre. Mais… c’est égal[32] — вторачи се той в нея отнесено.
— Виждам, че c’est égal — презрително процеди тя, — господи! Че той припадна! Настася, Настася! Вода!
Но до вода не стигна. Той се съвзе, Варвара Петровна взе чадърчето си.
— Виждам, че сега с вас не може да се говори…
— Oui, oui, je suis incapable.[33]
— Но до утре ще сте отпочинали и обмислили. Стойте си вкъщи, ако се случи нещо, обадете ми, та макар и посред нощ. Писма не пишете, няма и да ги чета. Утре по същото време пак ще дойда, за окончателен отговор и се надявам, че ще бъде задоволителен. Погрижете се да няма никого и да няма боклук, че то на какво прилича това? Настася, Настася!
Разбира се, на другия ден той се беше съгласил; пък и не можеше да не се съгласи. Тук имаше едно особено обстоятелство…
VIII
Тъй нареченото имение на Степан Трофимович (от петдесет души, според както се броеше по-рано, и в съседство със Скворешники) изобщо не беше негово, а на първата му жена, а сега следователно на техния син Пьотър Степанович Верховенски. Степан Трофимович само опекунстваше, а впоследствие, когато пилето се опери, управляваше имението от негово име по пълномощие. Сделката беше изгодна за момъка; получаваше от баща си годишно около хиляда рубли уж приход от имението, макар че при новия ред то не даваше и петстотин, а може и по-малко. Един господ знае как се бяха установили подобни отношения. Впрочем цялата тази хилядарка я пращаше Варвара Петровна, а Степан Трофимович и с една рубла не участваше в нея. Напротив, целият приход от имотеца слагаше в джоба си и освен това го беше напълно разорил, давайки го под наем на някакъв предприемач, и тайно от Варвара Петровна, продавайки за сеч гората, тоест главната му ценност. Цялата струваше най-малкото осем хиляди, а беше взел за нея само пет. Но понякога твърде много губеше на карти в клуба, а да иска от Варвара Петровна, се страхуваше. Тя просто скърцаше със зъби, когато накрая научи всичко това. И сега синчето най-внезапно съобщаваше, че си пристига и на всяка цена иска да продаде своите владения, а на баща си нареждаше без разтакане да се погрижи за продажбата. Много ясно, че при своето благородство и безкористие на Степан Трофимович му беше станало съвестно пред ce cher enfant[34], което за последен път беше виждал преди цели девет години (като студент в Петербург). Първоначално цялото имение би могло да струва тринайсет или четиринайсет хиляди, сега едва ли някой би дал за него и пет. Несъмнено въз основа на формалното пълномощно Степан Трофимович имаше пълното право да продаде гората и слагайки в сметката хилядата рубли, които толкова години най-акуратно се изпращаха уж че годишен приход (нещо невъзможно), би могъл значително да си облекчи положението. Но Степан Трофимович беше благороден и имаше висши стремежи. Дошла му беше наум една удивително красива мисъл: когато Петруша си дойде, най-неочаквано и благородно да постави на масата най-големия maximum на цената, тоест дори петнайсет хиляди, без ни най-малкия намек за изпращаните досега суми, и силно-силно, със сълзи на очи, да притисне до гърдите си ce cher fils[35], с което да приключат всички сметки. Предпазливо и издалеч бе почнал да разгръща тая картинка пред Варвара Петровна. Намеквал бе даже, че това щяло да придаде някакъв особен, благороден оттенък на тяхната дружеска връзка… на „идеята“ им. Това би поставило в такава безкористна и великодушна светлина някогашните бащи и някогашните хора изобщо в сравнение с новата лекомислена и социална младеж. И още много неща бе говорил, но Варвара Петровна си мълчеше. Накрая сухо бе заявила, че е съгласна да купи земята им и ще даде за нея maximum цена, тоест шест, седем хиляди (а и за четири можеше да се купи). За останалите осем хиляди, които бяха хвръкнали с гората, не каза и дума.
Това се беше случило месец преди сватосването. Степан Трофимович беше поразен и взе да се замисля. По-рано все още съществуваше надеждата, че синчето май изобщо няма да си дойде — тъй би могъл да каже впрочем страничен човек, а самият Степан Трофимович като баща с негодувание би отхвърлил дори мисълта за подобна надежда. Както и да е, но до тоя момент за Петруша до нас дохождаха все едни такива странни слухове. Отначало, когато преди шест години завърши университета, той се шматкаше без работа в Петербург. Внезапно се получи известие, че бил участвал в съставянето на някаква анонимна прокламация и е привлечен под отговорност. После, че били го видели в странство, в Швейцария, в Женева — ще рече забягнал.
— Чудно ми е всичко това — проповядваше ни тогава Степан Трофимович, страшно сконфузено. Петруша c’est une si pauvre tête[36]! Той е добър, благороден, много чувствителен и толкова му се зарадвах тогава, в Петербург, сравнявайки го със съвременната младеж, но c’est un pauvre sire tout de même[37]. И, знаете ли, все от тая недоизмътеност, сантименталност! Тях ги пленява не реализмът, а сантименталната, идеалната страна на социализма, тъй да се каже, неговият религиозен оттенък, неговата поезия… по чужда гайда, разбира се. Хубаво, ами аз, аз накъде? Толкова врагове имам тук, там още повече, ще го припишат на бащиното влияние… Боже! Петруша — и деец! В какви времена живеем!
Петруша впрочем много скоро съобщи точния си адрес в Швейцария, за да му пратят редовната парична вноска: ще рече, не беше съвсем емигрант. И ето че сега, след четири години в странство, внезапно отново се появява в отечеството и известява за скорошното си пристигане: ще рече, не е бил обвинен в нищо. Не стига туй, ами някой сякаш го подкрепяше и покровителстваше. Сега пишеше от Южна Русия, където изпълнявал нечие частно, но важно поръчение и вършел там нещо. Всичко това беше чудесно, но откъде все пак да се вземат останалите седем-осем хиляди, та да се стъкми един приличен maximum цена за имението? Ами ако се вдигне шум и вместо величествената картина се стигне до съд? Нещо подсказваше на Степан Трофимович, че сантименталният Петруша няма да пренебрегне интересите си. „Забелязал съм, че, кой знае защо — прошушна ми тогава веднъж Степан Трофимович, — кой знае защо, всички тия отчаяни социалисти и комунисти са същевременно и невероятни скъперници, интересчии и собственици и дори нещо повече, колкото по-голям социалист е, колкото по-далеч отива, толкова повече държи на собствеността си… защо ли е тъй? Дали не е пак от сантименталност.“ Не знам имали истина в тази забележка на Степан Трофимович; зная само, че Петруша разполагаше с някои сведения за продажбата на гората и прочие, а Степан Трофимович знаеше, че той разполага с тия сведения. Случвало ми се е също да чета писмата на Петруша до баща му; пишеше донемайкъде рядко, веднъж на годината, дори още по-рядко. Само в последно време, уведомявайки за предстоящото си пристигане, прати две писма почти едно подир друго. Всичките му писма бяха кратки, сухи, състояха се единствено само от разпореждания, и тъй като бащата и синът още от Петербург бяха по модата, на ти, и писмата на Петруша определено имаха характера на ония старинни предписания, които едновремешните помешчици пращаха от столицата до крепостните си, поставени да управляват именията им. И ето че тия осем хиляди, които оправяха цялата работа, внезапно изскачат от предложението на Варвара Петровна, при което тя ясно дава да се разбере, че от никъде другаде не могат да изскочат. Разбира се, че Степан Трофимович се беше съгласил.
Пратил бе да ме повикат още щом си беше отишла, а за всички останали заключи вратата за целия ден. То се знае, поплака си, много и хубаво говори, много и силно се отклоняваше, направи случайно един каламбур и остана доволен от него, после дойде една лека холерина — с една дума, всичко мина по реда си. След което измъкна портрета на своето починало отпреди двайсет години немкинче и жално взе да нарежда: „Ще ми простиш ли ти на мен?“ Въобще беше някак изкарай от релсите. От мъка дори посръбнахме малко. Впрочем той скоро и сладко заспа. На сутринта майсторски си върза връзката, грижливо се облече и час по час ходеше да се гледа пред огледалото. Напарфюмира кърпичката си, впрочем едва-едва, и щом видя през прозореца Варвара Петровна, бързо взе друга кърпичка, а напарфюмираната скри под възглавницата.
— Ами чудесно! — похвали го Варвара Петровна, изслушвайки неговото съгласие. — Първо, благородна решителност, а, второ, вслушали сте се в гласа на разума, в който вие твърде рядко се вслушвате, решавайки личните си работи. Впрочем няма какво да се бърза — прибави тя, разглеждайки бялата му връзка — засега си мълчете, и аз ще мълча. Наближава рожденият ви ден; ще дойдем заедно с нея. Ще дадете един вечерен чай и ви моля, без пиене и мезета; впрочем аз ще наредя всичко. Поканете приятелите си — впрочем заедно ще направим подбора. Предния ден ще поговорите с нея, ако се наложи, а вечерта у вас не че ще го обявяваме или ще правим някакъв годеж, а само тъй, ще намекнем, или ще дадем да се разбере, без всякакви тържествености. Пък след седмица-две и сватбата, по възможност без всякакъв шум… Даже вие двамата може да заминете за известно време веднага след венчавката, та макар в Москва например. Може и аз да дойда с вас… А главното, дотогава мълчете.
Степан Трофимович беше озадачен. Понечи да каже, че му е невъзможно тъй, че все трябва да поговори някак с годеницата, но Варвара Петровна нервно се нахвърли върху него:
— Това пък защо? Първо, все още може би нищо няма да стане…
— Как няма да стане! — измърмори младоженецът, вече напълно съсипан.
— Така. Ще видя… А впрочем всичко ще стане, както съм казала, и не се тревожете, самата аз ще я подготвя. Вие няма какво да се бъркате. Всичко необходимо ще бъде казано и направено, а вие няма какво да се бъркате. Защо? В ролята на какъв? И никакво ходене, никакво писане на писма. И никому нищо, моля ви. И аз ще си мълча.
Тя направо не желаеше да се обясняват и си отиде явно разстроена. Види се, прекомерната готовност на Степан Трофимович я беше поразила. Уви, той направо не разбираше своето положение и още не си представяше нещата от друга гледна точка. Напротив, у него се появи някакъв нов тон, нещо победоносно и лекомислено. Той се перчеше.
— Това ми харесва! — възклицаваше той, заставайки пред мен с разперени ръце. — Чухте ли? Тя иска да ме докара дотам, че най-накрая да се откажа. Ами че аз също мога да изгубя търпение и… да се откажа! „Стойте мирен и няма какво да търсите там“, но защо в края на краищата непременно трябва да се женя? Само защото на нея й хрумнала една смешна фантазия? Но аз съм сериозен човек и мога да не пожелая да се подчиня на празните фантазии на една неуравновесена жена! Аз си имам задължения към моя син… и към самия себе си! Аз правя жертва — разбира ли го тя това? Аз може би затова и се съгласих, защото ми е опротивял животът и ми е все едно. Но тя може да ме нервира и тогава няма да ми бъде все едно; ще се обидя и ще се откажа. Et enfin le radicule…[38] Какво ще кажат в клуба? Какво ще каже Липутин? „Все още може би нищо няма да стане“ — как ви се вижда! Но това е върхът. Това е вече… какво е това? Je suis un forçat, un Badinguet[39], un[40] притиснат до стената човек!…
И същевременно някакво капризно задоволство, нещо игриво-лекомислено прозираше сред всички тия жални възклицания. Вечерта пак пийнахме.