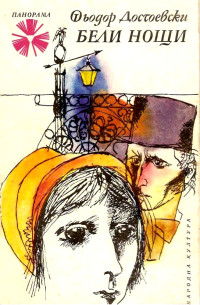Метаданни
Данни
- Включено в книгата
-
- Оригинално заглавие
- Белые ночи, 1848 (Обществено достояние)
- Превод от руски
- Дамян Тодоров, 1959 (Пълни авторски права)
- Форма
- Повест
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,2 (× 46 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
Издание:
Ф. М. Достоевски. Бели нощи
Руска. Второ издание
Редактор: Лиляна Ацева
Технически редактор: Олга Стоянова
Коректор: Лидия Стоянова
Издателство „Народна култура“
Оформление: Владислав Паскалев
Рисунка: Симеон Венов
Художник-редактор: Ясен Васев
Ф. М. Достоевский
Белые ночи
Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том второй
Издательство „Наука“, Ленинградское отделение, Ленинград, 1972
Лит. група IV
Дадена за набор 3. XII. 1977 г.
Подписана за печат март 1978 г.
Излязла от печат юни 1978 г.
ДПК „Димитър Благоев“, София
Печатни коли 5
Изд. коли 4.99
Цена 0,50 лв
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Година
- 1848 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Повест
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Л., „Наука“, 1988. Том 2.
История
- — Добавяне
Четвърта нощ
Боже, как свърши всичко това! С какво свърши всичко това!
Пристигнах в девет часа. Тя беше вече там. Забелязах я още отдалеч; тя стоеше както тогава, първия път, облакътила се на перилата на крайбрежната улица, и не чу, когато се приближих до нея.
— Настенка! — повиках я аз, като едва потисках вълнението си.
Тя бързо се обърна.
— Хайде! — каза тя. — Хайде! По-скоро!
Гледах я с недоумение.
— Хайде, къде е писмото? Донесохте ли писмото? — повтори тя, като се улови с ръка за перилата.
— Не, у мен няма писмо — казах аз най-сетне, — нима той още не е идвал?
Тя страшно пребледня и дълго време ме гледа неподвижно. Бях разбил последната й надежда.
— Е, на добър му час! — продума тя най-сетне с пресекващ глас. — На добър му час, щом така ме оставя!
Тя наведе очи, сетне понечи да ме погледне, но не можа. Още няколко минути се мъчеше да превъзмогне вълнението си, но изведнъж се отвърна, подпря лакти на преградата на крайбрежната и се заля в сълзи.
— Стига, стига! — започнах аз, но нямах сили да продължа, като я гледах, пък и какво бих могъл да говоря?
— Не ме утешавайте — каза тя, плачейки, — не говорете за него, че ще дойде, че не ме е изоставил така жестоко, тъй безчовечно, както го стори. За какво, за какво? Нима имаше нещо в писмото, в това нещастно писмо?…
Ридания пресякоха гласа й; сърцето ми се късаше, като я гледах.
— О, колко безчовечно жестоко е това! — почна тя отново. — И нито дума, нито дума! Поне да беше отговорил, че не му трябвам, че ме изоставя: а то цели три дни нито дума! Колко лесно му е да оскърби, да обиди една злочеста, беззащитна девойка, която е виновна само за това, че го обича! О, колко преживях през тези три дни! Боже мой, боже мой! Като си спомням, че сама отидох при него първия път, че се унижавах пред него, плаках, че го молех поне за капка любов… и след това!… Слушайте — заговори тя, като се обърна към мен и черните й очички засвяткаха, — та това не е така! Това не може да бъде така; това е неестествено! Или вие, или аз сме се измамили: може би той не е получил писмото! Може би и досега нищо не знае? Та как може, съдете сами, кажете ми, за бога, обяснете ми — не мога да разбера това, — как може да се постъпи така варварски грубо, както той постъпи с мен! Нито думица! Но и към последния човек в света хората са по-състрадателни. Може би е дочул нещо, може би някой ме е наклеветил пред него? — завика тя, като се обърна към мен: — Как, как мислите?
— Слушайте, Настенка, аз утре ще отида при него от ваше име.
— После!
— Ще го попитам за всичко, ще му разкажа всичко.
— После, после!
— Вие ще напишете писмо. Не отказвайте, Настенка, не отказвайте! Ще го накарам да уважава постъпката ви, той всичко ще научи и ако…
— Не, приятелю мой, не! — прекъсна ме тя. — Стига! Повече нито дума, нито една дума от мен, нито ред — стига! Аз не го познавам, не го обичам вече, аз ще го за… бра… вя…
Тя не се доизказа.
— Успокойте се, успокойте се! Седнете тук, Настенка — казах аз, като я настанявах на пейката.
— Та аз съм спокойна. Стига! Аз просто така! Това са сълзи, те ще пресъхнат! Какво мислите, че ще се погубя, че ще се удавя?…
Сърцето ми преливаше; исках да говоря, но не можех.
— Слушайте! — продължи тя, като улови ръката ми. — Кажете: вие нали не бихте постъпили така? Не бихте зарязали оная, която сама би дошла при вас, не бихте се надсмели безсрамно над нейното слабо, глупаво сърце? Вие бихте я защитили, нали? Бихте си представили, че е била сама, не е умеела да се предварди, че не е умеела да се опази от любовта си към вас, че не е виновна, че тя най-после не е виновна… че нищо не е направила!… О, боже мой, боже мой!…
— Настенка! — извиках аз най-сетне, безсилен да преодолея вълнението си. — Настенка, вие ме измъчвате! Вие наранявате сърцето ми, вие ме убивате, Настенка! Аз не мога да мълча! Аз трябва най-сетне да говоря, да изкажа онова, което е накипяло тук, в сърцето ми…
При тия думи аз се понадигнах от пейката. Тя ме хвана за ръката и ме гледаше учудено.
— Какво ви е? — рече тя най-после.
— Слушайте! — казах аз решително. — Изслушайте ме, Настенка! Всичко, което ще кажа сега, е брътвеж, всичко е неосъществимо, всичко е глупаво! Знам, че всичко това никога не може да се случи, но повече не мога да мълча. В името на това, от което вие страдате сега, предварително ви моля, простете ми!…
— Но, какво, какво? — каза тя, като престана да плаче и ме гледаше втренчено, докато странно любопитство блестеше в учудените й очички. — Какво ви е?
— Това е неосъществимо, но аз ви обичам, Настенка, това е! Е, сега вече всичко е казано! — казах аз, като махнах с ръка. — Сега ще видите дали можете да говорите така с мен, както преди малко говорехте, можете ли най-сетне да слушате това, което ще говоря…
— Е, та какво толкова, какво? — прекъсна ме Настенка. — Та какво от това? Е, аз отдавна знаех, че ме обичате, но все ми се струваше, че вие мен просто така някак си ме обичате… Ах, боже мой, боже мой!
— Отначало беше просто така, Настенка, а сега, сега… аз съм точно като вас, когато с вързопчета сте отишли тогава при него. По зле от вас, Настенка, защото тогава той никого не е обичал, а вие обичате.
— Какво ми говорите! Та аз най-сетне съвсем не ви разбирам. Но слушайте, за какво, тоест не за какво, а защо вие говорите това така, и така изведнъж… Боже, аз приказвам глупости! Но вие…
И Настенка съвсем се обърка. Бузите й пламнаха; тя сведе очи.
— Какво да правя, Настенка, какво да правя аз! Виновен съм, злоупотребих… Но не, разбира се, не, не съм виновен, Настенка; аз усещам, чувствувам това, защото моето сърце ми говори, че съм прав, защото аз с нищо не мога да ви обидя, с нищо не мога да ви оскърбя! Бях ваш приятел; е, то и сега съм ви приятел; на нищо не съм изменил. Ето сълзите ми текат сега, Настенка. Нека текат, нека си текат — те никому не пречат. Те ще изсъхнат, Настенка…
— Та седнете де, седнете — каза тя, като ме дърпаше да седна на пейката. — Ох, боже мой!
— Не, Настенка, аз няма да седна; повече аз няма да остана тук, вие вече няма да ме видите; ще ви кажа всичко и ще си отида. Искам да кажа само, че вие никога не бихте узнали, че ви обичам. Аз щях да запазя тайната си. Не бих ви измъчвал сега, в тая минута, с моя егоизъм. Не! Но не можах сега да се стърпя; вие сама заговорихте за това, вие сте виновна, за всичко вие сте виновна, а аз съм невинен. Вие не можете да ме пропъдите от себе си…
— Ама не, разбира се, не, няма да ви пропъдя, не! — говореше Настенка, като криеше, доколкото можеше, смущението си, горкичката.
— Не ме пъдите, не? А аз сам исках да бягам от вас. И ще си отида, само най-напред ще кажа всичко, защото, когато вие говорехте, аз не можах да се стърпя, когато вие тук плачехте, когато се измъчвахте за това, ами за това (аз ще го кажа вече, Настенка), за това, че ви пренебрегват, че са отблъснали вашата любов, аз почувствувах, усетих, че в сърцето ми има толкова любов за вас, Настенка, толкова любов!… И ми стана така криво, че не мога да ви помогна с тая любов… че сърцето ми се късаше и аз, аз — не можех да мълча, трябваше да говоря, Настенка, трябваше да говоря!…
— Да, да! Говорете ми, говорете ми така! — каза Настенка с някакво неясно движение. — Може би ви е чудно, че ви говоря така, но… говорете! После ще ви кажа! Всичко ще ви разкажа!
— Жал ви е за мен, Настенка; просто ви е жал за мен, приятелче мое! Което е загубено, то е загубено! Казана дума не се връща назад! Нали така? Е, сега вече всичко знаете. Да, ето това е отправната точка. Е, добре! Сега всичко това е прекрасно; само слушайте. Когато седяхте и плачехте, аз си мислех (ох, позволете да кажа какво мислех!), мислех, че (е, разбира се, това не може да бъде, Настенка), мислех, че вие… мислех, че вие някак си… е, по някакъв съвсем особен начин, не го обичате вече. Тогава — аз и вчера, и завчера още си мислех това, Настенка, тогава аз бих направил така, непременно бих направил така, че вие бихте ме обикнали: нали вие казахте, вие сама говорехте, Настенка, че почти вече сте ме обикнали. Е, а после? Да, ето почти всичко, което исках да кажа; остава само да добавя какво би било, ако вие ме обикнехте, само това, нищо повече! Слушайте, приятелко моя — защото вие все пак сте моя приятелка, — аз, разбира се, съм прост, беден, толкова незначителен човек, само че не е там работата (аз някак все не както трябва говоря, това е от смущение, Настенка), само че аз така бих ви обичал, така бих ви обичал, че дори и още да го обичахте и да продължавате да обичате оня, когото не познавам, то все пак не бихте забелязали моята любов някак да ви тежи. Само бихте усещали, само бихте чувствували всяка минута, че до вас тупти едно благодарно, безкрайно благодарно сърце, пламенно сърце, което за вас… Ах, Настенка, Настенка, какво направихте с мен!…
— Но не плачете, не искам да плачете — каза Настенка, като стана бързо от пейката. — Елате, станете, елате с мен, не плачете де, не плачете! — говореше тя, като бършеше сълзите ми с кърпичката си. — Хайде, елате сега; може би ще ви кажа нещо… Да, щом пък той вече ме е оставил, щом ме е забравил, макар че още го обичам (не искам да ви мамя)… но, слушайте, отговорете ми. Ако например ви обикнех, тоест ако аз само… Ох, приятелю мой, приятелю мой! Като си помисля, като си помисля, че съм ви оскърбявала тогава, че съм се надсмивала на вашата любов, когато ви хвалех, че не сте се влюбили в мен… О, боже! Та как не предвидих това, как не предвидих, как можех да бъда тъй глупава, но… да, да, аз се реших, аз всичко ще кажа.
— Слушайте, Настенка, знаете ли какво, аз ще си отида, ето какво! Аз просто ви измъчвам. Ето сега започват угризения на съвестта, задето сте ми се надсмивали, а аз не искам, да, не искам, щото вие освен вашата мъка… аз, разбира се, съм виновен, Настенка, но прощавайте!
— Стойте, изслушайте ме: можете ли да чакате?
— Какво да чакам, как?
— Аз го обичам; но това ще мине, това трябва да мине, не може да не мине; започва да минава вече, усещам… Откъде да знаеш, може би още днес ще свърши, защото аз го мразя, защото той се надсмя над мен, докато вие плакахте тук заедно с мен, защото вие не ме отхвърлихте като него, защото вие ме обичате, а той не ме е обичал, защото най-сетне и аз ви обичам… да, обичам ви! Обичам ви, както и вие ме обичате; ами че аз сама и преди ви казах, сам чухте — обичам ви, защото сте по-добър от него, защото сте по-благороден от него, защото, защото той…
Вълнението на клетницата бе така силно, че тя не довърши, отпусна глава на рамото ми, сетне на гърдите и горко заплака. Аз я утешавах, уговарях я, но тя не можеше да престане; само ми стискаше ръката и през ридания говореше: „Почакайте, почакайте; ето ей сега ще престана! Искам да ви кажа… не мислете, че тия сълзи — че това е тъй, от слабост, почакайте да мине…“ Най-сетне тя престана да плаче, избърса сълзите си и ние отново тръгнахме. Поисках да заговоря, но тя дълго още все ме молеше да почакам. Замълчахме… Най-сетне се овладя и почна да говори…
— Ето какво — почна тя със слаб, треперещ глас, в който изведнъж зазвънтя нещо такова, което се заби право в сърцето ми и причини сладка болка, — не мислете, че съм така непостоянна и вятърничава, не мислете, че мога така лесно и бързо да забравя и изменя… Цяла година го обичах и кълна се в бога, че никога, никога дори с мисълта си не съм му изневерила. Той пренебрегна това; надсмя се над мен — на добър му час! Но той ме и нарани, наскърби сърцето ми. Аз — аз не го обичам, защото мога да обичам само нещо, което е великодушно, което ме разбира, което е благородно; защото самата аз съм такава, а той е недостоен за мен — е, на добър му час! Така той постъпи по-добре, отколкото после да се измамех в очакванията си и да разберях какъв е… Е, свършено! Но откъде да зная, добри ми приятелю — продължаваше тя, като стискаше ръката ми, — откъде да зная, може би и цялата ми любов е била измама на чувствата, на въображението, може би е почнала на шега, глупаво; поради това, че бях под надзора на баба? Може би трябва да обичам друг, а не него, не такъв човек, а друг, който би ме пожалил и, и… Е, да оставим, да оставим това — прекъсна се Настенка, задъхана от вълнение, — исках само да ви кажа… исках да ви кажа, че ако въпреки това, че го обичам, (не, че го обичах), ако въпреки това вие кажете… ако чувствувате, че вашата любов е тъй голяма, че може най-сетне да измести от сърцето ми предишната… ако искате да ме съжалите, ако не искате да ме оставите на моята съдба, без утеха, без надежда, ако искате винаги да ме обичате, както сега ме обичате, то кълна ви се, че благодарността ми… че моята любов ще бъде най-сетне достойна за вашата любов… Ще вземете ли сега ръката ми?
— Настенка — извиках аз, задъхвайки се от ридания, — Настенка!… О, Настенка!…
— Е, стига, стига! Е, наистина стига вече! — заговори тя, като едва се владееше. — Е, сега вече всичко е казано, нали? Така ли? Е, и вие сте щастлив, и аз съм щастлива; Нито дума повече за това; почакайте, пощадете ме… Говорете, за бога, нещо друго!…
— Да, Настенка, да! Стига за това, сега аз съм щастлив, аз… Хайде, Настенка, хайде, да заговорим за друго, по-скоро, по-скоро да заговорим; да, аз съм готов!…
Но ние не знаехме какво да говорим, смеехме се, плачехме, произнасяхме хиляди думи без връзка и мисъл; ту ходехме по тротоара, ту изведнъж се връщахме назад и се впускахме да прекосяваме улицата; сетне спирахме и пак минавахме на брега; бяхме като деца…
— Сега живея сам, Настенка — заговорих аз, — а утре… Е, разбира се, аз, знаете, Настенка, съм беден, получавам само хиляда и двеста, но това нищо…
— Разбира се, нищо не е, но баба има пенсия; така че тя няма да ни притеснява. Трябва да вземем баба.
— Разбира се, трябва да вземем баба. Само че, виж, Матрьона…
— Ах, ами и ние имаме Фьокла!
— Матрьона е добра, само един недостатък има: няма въображение, Настенка, никакво въображение; но нищо!…
— Нищо; двете могат да живеят заедно; още утре се премествайте у нас.
— Как, у вас!? Добре, готов съм…
— Да наемете квартира у нас. У нас, там горе, в мансардата; тя е празна; имаше квартирантка, една бабичка дворянка, но се изнесе и зная, баба иска да пусне млад човек; казвам: „Ами защо млад човек?“ А тя ми отговаря; „Ами така, аз съм вече стара, само че ти да не помислиш, Настенка, че ще искам да те женя за него.“ Но аз се досетих, че е за това…
— Ах, Настенка!…
И двамата се засмяхме.
— Е, стига, стига. А вие къде живеете? Забравих.
— Там при Н-ския мост, в къщата на Баранников.
— Една голяма къща ли?
— Да, една голяма къща.
— А, зная, хубава къща е; само че, знаете ли, напуснете я и се преместете по-скоро у нас…
— Още утре, Настенка, още утре; само малко дължа за квартирата; но нищо… Скоро ще получа заплата…
— А знаете ли, аз може би ще давам уроци; сама ще се изуча и ще давам уроци…
— Това е прекрасно… а аз скоро ще получа награда, Настенка…
— И така, от утре ще бъдете мой квартирант…
— Да, и ще отидем на „Севилският бръснар“, защото скоро пак ще го дават.
— Да, ще отидем — каза засмяна Настенка, — но по-добре да бъде не „Бръснарят“, а нещо друго…
— Е, добре, нещо друго; разбира се, по-добре ще бъде, аз пък не съобразих…
Говорейки си така, ние и двамата се движехме като сред дим, като в мъгла и просто сами не знаехме какво става с нас. Ту се спирахме и дълго разговаряхме на едно място, ту пак се спускахме да вървим и бродехме бог знае къде и пак смях, пак сълзи… Ту Настенка изведнъж поиска да си върви, а аз не смея да я задържам и искам да я изпроводя чак до къщи; тръгваме и не щеш ли, след четвърт час се озовахме на брега на нашата пейка. Ту тя ще въздъхне и пак сълзица ще се покаже на очите й; а аз се изплаша, смразя се… Но тя веднага ми стиска ръката и ме дърпа отново да вървим, да бъбрим, да говорим…
— Време е вече, време е да си вървя вкъщи; мисля, че е много късно — каза най-сетне Настенка, — стига сме се правили на деца!
— Да, Настенка, само че сега аз няма да заспя; няма да си отида вкъщи.
— Май че и аз няма да заспя; само че изпратете ме…
— Непременно!
— Но сега вече непременно ще стигнем до дома.
— Непременно, непременно…
— Честна дума?… Защото нали трябва все някога да се върна вкъщи!
— Честна дума — отвърнах аз със смях…
— Хайде, да вървим!
— Да вървим.
— Погледнете небето, Настенка, погледнете! Утре ще имаме чудесен ден; какво синьо небе, каква луна! Погледнете: ето това жълтото облаче сега я забулва, гледайте, гледайте!… Не, отмина покрай нея. Гледайте де, гледайте!…
Но Настенка не гледаше облака, тя стоеше мълчалива, като вцепенена; а след минута започна някак плахо, но силно да се притиска до мен. Ръката й затрепери в моята ръка; погледнах я… Тя се опря още по-силно.
В тая минута покрай нас мина млад човек. Той изведнъж се спря, изгледа ни втренчено и после направи пак няколко крачки. Сърцето ми заби…
— Настенка — казах аз тихо, — кой е тоя, Настенка!
— Това е той! — отвърна тя шепнешком, като се притискаше още повече, още по-трепетно, до мен… Аз едва се задържах на краката си.
— Настенка! Настенка! Това си ти! — чу се глас зад нас и в същия миг младият човек направи няколко крачки към нас.
Боже, какъв вик! Как потрепери тя! Как се изтръгна от ръцете ми и литна към него!… Стоях и ги гледах като убит. Но тя едва подала му ръка, едва хвърлила се в прегръдките му, изведнъж отново се обърна към мен, озова се до мен, по-бърза от вятър, от мълния, и преди да успея да се опомня, обгърна с две ръце шията ми и силно, горещо ме целуна. Сетне, без да каже нито дума, отново се спусна към него, хвана го за ръце и го повлече след себе си.
Дълго стоях и гледах след тях… Най-после и двамата изчезнаха от очите ми.
Ночь четвертая
Боже, как всё это кончилось! Чем всё это кончилось! Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.
— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.
Она быстро обернулась ко мне.
— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!
Я смотрел на нее в недоумении.
— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.
— Нет, у меня нет письма, — сказал я наконец, — разве он еще не был?
Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.
— Ну, бог с ним! — проговорила она наконец прерывающимся голосом, — бог с ним, — если он так оставляет меня.
Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.
— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил недостало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?
— Не утешайте меня, — говорила она плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?…
Тут рыдания пресекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.
— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть, бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой! Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви… И после этого!… Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне, — я этого не могу понять, — как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?
— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.
— Ну!
— Я спрошу его обо всем, расскажу ему всё.
— Ну, ну!
— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он всё узнает, и если…
— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по…за…буду…
Она не договорила.
— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.
— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?…
Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.
— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата… что она ничего не сделала!… О, боже мой, боже мой!…
— Настенька! — закричал я наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение, — Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен наконец говорить, высказать, что у меня накипело тут, в сердце…
Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.
— Что с вами? — проговорила она наконец.
— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, всё вздор, всё несбыточно, всё глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!…
— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках, — что с вами?
— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь всё сказано! — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить…
— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне всё казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите… Ах, боже мой, боже мой!
— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь… я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.
— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг… Боже! я говорю глупости! Но вы…
И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.
— Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я виноват, я употребил во зло… Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня Теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька…
— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, боже мой!
— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я всё скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы схоронил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя…
— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая.
— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я всё скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну, оттого (уж я на зову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!… И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью… что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!…
— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но… говорите! я вам после скажу! я вам всё расскажу!
— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротишь! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете всё. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь всё это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы… я думал, что вы как-нибудь там… ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда, — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и всё, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг, — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то всё не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас… Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!…
— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь… Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)… но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только… Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!… О, боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но… ну, ну, я решилась, я всё скажу…
— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, Да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя… я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!
— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?
— Чего ждать, как?
— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти это не может не пройти; уж проходит, я слышу… Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому что вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама… да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он…
Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она всё жала мне руку и говорила между рыданьями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать… вы не думайте, чтоб эти слезы, — это так, от слабости, подождите, пока пройдет…» Наконец она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще всё просила меня подождать. Мы замолчали… Наконец она собралась с духом и начала говорить…
— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить… Я целый год его любила и богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, — бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня, — ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков… Ну, кончено! Но почем знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и… Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать… я вам хотела сказать, что если, несмотря на то что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете… если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может наконец вытеснить из Моего сердца прежнюю… если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность… что любовь моя будет наконец достойна вашей любви… Возьмете ли вы теперь мою руку?
— Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька!… О Настенька!…
— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже всё сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня… Говорите о чем-нибудь другом, ради бога!…
— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я… Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов…
И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети…
— Я теперь живу один, Настенька, — заговорил я, — а завтра… Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего…
— Разумеется, нет, а у бабушки пенсион; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.
— Конечно, нужно взять бабушку… Только вот Матрена…
— Ах, да и у нас тоже Фекла!
— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!…
— Всё равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам переезжайте.
— Как это? к вам! Хорошо, я готов…
— Да, вы наймите у нас. У нас там, наверху, мезонин; он пустой; жилица была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того…
— Ах, Настенька!…
И оба мы засмеялись.
— Ну, полноте же, полноте. А где же вы живете? я и забыла.
— Там, у — ского моста, в доме Баранникова.
— Это такой большой дом?
— Да, такой большой дом.
— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее…
— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего… Я получу скоро жалованье…
— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки…
— Ну вот и прекрасно… а я скоро награждение получу, Настенька…
— Так вот вы завтра и будете мой жилец…
— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.
— Да, поедем, — сказала смеясь Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое…
— Ну хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал…
Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы… То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза; я оробею, похолодею… Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить…
— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала наконец Настенька, — полно нам так ребячиться!
— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.
— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня…
— Непременно!
— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.
— Непременно, непременно…
— Честное слово?… потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!
— Честное слово, — отвечал я смеясь…
— Ну, пойдемте!
— Пойдемте.
— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако теперь застилает её, смотрите, смотрите!… Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!…
Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее… Она оперлась на меня еще сильнее.
В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало…
— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?
— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне… Я едва устоял на ногах.
— Настенька! Настенька! это ты! — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов.
Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!… Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.
Я долго стоял и глядел им вслед… Наконец оба они исчезли из глаз моих.