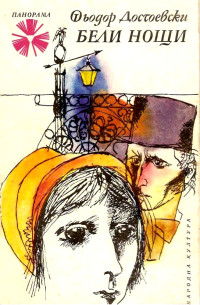Метаданни
Данни
- Включено в книгата
-
- Оригинално заглавие
- Белые ночи, 1848 (Обществено достояние)
- Превод от руски
- Дамян Тодоров, 1959 (Пълни авторски права)
- Форма
- Повест
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- 5,2 (× 46 гласа)
- Вашата оценка:
Информация
Издание:
Ф. М. Достоевски. Бели нощи
Руска. Второ издание
Редактор: Лиляна Ацева
Технически редактор: Олга Стоянова
Коректор: Лидия Стоянова
Издателство „Народна култура“
Оформление: Владислав Паскалев
Рисунка: Симеон Венов
Художник-редактор: Ясен Васев
Ф. М. Достоевский
Белые ночи
Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том второй
Издательство „Наука“, Ленинградское отделение, Ленинград, 1972
Лит. група IV
Дадена за набор 3. XII. 1977 г.
Подписана за печат март 1978 г.
Излязла от печат юни 1978 г.
ДПК „Димитър Благоев“, София
Печатни коли 5
Изд. коли 4.99
Цена 0,50 лв
История
- — Добавяне
Метаданни
Данни
- Година
- 1848 (Обществено достояние)
- Език
- руски
- Форма
- Повест
- Жанр
- Характеристика
- Оценка
- няма
- Вашата оценка:
Информация
- Източник
- Интернет-библиотека Алексея Комарова / Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 15-ти томах. Л., „Наука“, 1988. Том 2.
История
- — Добавяне
Втора нощ
— Е, ето че доживяхме! — каза ми тя, като се смееше и стискаше и двете ми ръце.
— Аз съм тук вече от два часа; вие не знаете какво ми беше целия ден!
— Знам, знам… но на въпроса. Знаете ли защо дойдох? Разбира се, не за да бъбрим глупости както вчера. Ето какво: занапред ние трябва по-умно да постъпваме. Вчера аз дълго мислих за всичко това.
— Та в какво, в какво да бъдем по-умни? От моя страна аз съм готов; но право да си кажа, в живота не ми се е случвало нищо по-умно от всичко това.
— Наистина ли? Първо, моля ви да не ми стискате така ръцете; второ, заявявам ви, че аз днес дълго мислих за вас.
— Е, и какво измислихте?
— Какво измислих ли? Измислих, че всичко трябва да почне отново, защото в края на краищата аз реших днес, че още сте ми съвсем непознат, че вчера постъпих като дете, като момиченце, и, разбира се, излезе така, че за всичко е виновно доброто ми сърце, тоест аз се похвалих, както става винаги накрая, когато почнем да преценяваме своите постъпки. И за да поправя тази своя грешка, реших да разуча всичко за вас най-подробно. Но тъй като няма от кого да науча за вас, то вие сте длъжен сам да ми разкажете всичко, всичко от игла до конец. Е, какъв човек сте вие? По-скоро — хайде почвайте, разказвайте своята история.
— История! — извиках аз уплашен. — История! Но кой ви е казал, че аз имам своя история? Аз нямам история…
— Ами че как сте живели, щом нямате история — прекъсна ме тя, като се смееше.
— Съвсем без всякакви истории! Така си живеех, както казваме ние, сам със себе си, тоест съвсем сам — сам, напълно сам, — разбирате ли какво значи сам?
— Ама как сам? Тоест никога с никого не сте се срещали?
— О не, за срещане, срещам се, — но все пак съм сам.
— Добре де, нима не говорите с никого?
— Строго погледнато, с никого.
— Та кой сте вие, обяснете! Чакайте, досещам се: навярно и вие имате като мен баба. Тя е сляпа и ето цял живот вече никъде не ме пуска, така че аз почти съвсем отвикнах да говоря. А когато преди две години извърших една лудория, тя разбра, че не може да ме удържи, взе, че ме повика и забоде с карфица роклята ми за своята — и така си седим оттогава по цели дни: макар и сляпа, тя плете чорапи; а аз трябва да седя до нея, да шия или да й чета на глас книжка — такъв странен навик, — та ето две години вече съм така забодена…
— Ах, боже мой, какво нещастие! Не, разбира се, аз нямам такава баба.
— Че щом нямате, как може тогава да седите вкъщи!…
— Слушайте, нали искате да знаете какъв човек съм аз?
— Е, да, да!
— В истинския смисъл на думата?
— В най-истинския смисъл на думата!
— Добре тогава, аз съм един тип.
— Тип, тип! Какъв тип? — завика девойката, като се закиска така, сякаш цяла година не бе имала случай да се смее. — Та с вас било весело! Вижте: ето тук има пейка; да седнем! Тук никой не минава, никой няма да ни чуе и — хайде почвайте вашата история! Защото не можете да ме убедите, вие си имате история, само че се криете. Първо, какво е това тип?
— Тип ли? Типът — това е оригинал, това е един смешен човек! — отговорих и сам се закисках след нея с детски смях. — Това е един чешитски характер. Слушайте: знаете ли какво нещо е мечтател?
— Мечтател? Моля ви се, как да не знам! Аз самата съм мечтателка! Понякога седя до баба и какво ли не ми идва на ум. Та ето почнеш да мечтаеш и така се размислиш — та направо за китайския принц се женя… А пък понякога е и хубаво — да помечтае човек. Не, впрочем кой знае! Особено ако има и без това за какво да се мисли — добави девойката тоя път доста сериозно.
— Отлично! Щом веднъж сте се женили вече за китайския богдихан, тогава, значи, напълно ще ме разберете. Добре, слушайте… Но позволете: аз още не зная, как се казвате?
— Най-после! Много рано се сетихте!
— Ах, боже мой! Та мен и на ум не ми е дошло, мен и така ми беше хубаво…
— Настенка се казвам.
— Настенка — и толкова?
— Толкова! Та нима ви е малко, ненаситник такъв!
— Малко ли? Много, много, напротив, твърде много ми е, Настенка, добричко девойче, щом отведнъж станахте за мен Настенка!
— О-о-о! Хайде стига!
— Е добре, Настенка, чуйте сега една смешна история.
Седнах до нея, приех педантично сериозна поза и почнах като по книга:
— Има, Настенка, ако вие не знаете това, има в Петербург доста странни кътчета. До тия места сякаш не достига същото слънце, което свети за всички петербургски хора, а някакво друго, ново, сякаш поръчано за тия кътчета, и свети на всичко с друга, особена светлина. В тия кътчета, мила Настенка, се живее сякаш съвсем друг живот, неприличащ на оня, който кипи около нас, такъв, който може да съществува в незнайното царство през девет земи в десета, а не у нас, в нашето от сериозно по-сериозно време. Ето тоя живот е смесица от нещо чисто фантастично, пламенно-идеално и заедно с това (уви, Настенка!) мъгляво — прозаично и обикновено, да не кажем, до невероятност банално.
— Тю, господи боже мой, какви предисловия! Какво ли още има да чуя!
— Ще чуете, Настенка (струва ми се, че никога няма да се уморя да ви наричам така), ще чуете, че в тия кътчета живеят странни хора — мечтатели. Мечтателят — ако трябва подробно определение за него — не е човек, а, знаете, някакво същество от среден род. Заселва се той най-често в някой непристъпен кът, сякаш се крие в него дори от дневната светлина, и завре ли се там, просто се сраства със своя кът като охлюв или поне много прилича в това отношение на онова интересно животно, което е и животно, и къща едновременно и се нарича костенурка. Как мислите, защо той така обича своите четири стени, боядисани непременно със зелена боя, опушени, мрачни и невъзможно пропити с тютюнев дим? Защо тоя смешен господин, когато идва да го навести някой от малкото му познати (а накрая става така, че познатите му все повече и повече намаляват), защо тоя смешен човек го посреща така смутено, с такова променено лице и толкова объркан, сякаш току-що е извършил между четирите стени престъпление, сякаш е фабрикувал фалшиви банкноти или някакви стихчета за изпращане на списание с анонимно писмо, в което се казва, че истинският поет вече е умрял и че неговият приятел смята за свещен дълг да публикуват стиховете му? Защо, кажете ми, Настенка, разговорът между тия двама души така не върви? Защо от устата на внезапно влезлия и озадачен приятел не се отронва нито смях, нито някоя шега, когато в други случаи той много обича и смеха, и шегите, и разговорите за прекрасния пол, и други весели теми? Та защо най-сетне тоя приятел, навярно неотдавнашен познат, още при първото посещение — защото в такъв случай второ вече няма да има, приятелят друг път няма да дойде, — защо самият приятел при всичкото си остроумие (ако, разбира се, го има) така се стеснява, така се вцепенява, като гледа промененото лице на домакина, който на свой ред вече съвсем загубва ума и дума и съвсем се оплита след исполински, но напразни усилия да изглади и оживи разговора, да покаже и той от своя страна, че познава етикета, да заговори също за прекрасния пол, та поне с тая покорност да се хареса на нещастния, попаднал не където трябва човек, който по погрешка му е дошъл на гости? Защо най-сетне гостът изведнъж взима шапката си и бързо си тръгва, спомнил си уж внезапно за някаква крайно неотложна работа, каквато всъщност никога не е имал, и освобождава ръката си от горещите ръкостискания на домакина, който се старае всякак да покаже разкаянието си и да поправи загубеното? Защо тръгналият си приятел, щом излезе от вратата, начаса се зарича никога повече да не идва при тоя чудак, макар че тоя чудак всъщност е едно чудесно момче, но същевременно никак не може да откаже на своето въображение една малка прищявка: да сравнява, макар и съвсем условно физиономията на своя неотдавнашен събеседник през цялото време на срещата с вида на онова нещастно котенце, което, хванато вероломно в плен от децата, намачкано, наплашено и жестоко обидено от тях, се е свряло най-после на тъмно под стола и там цял час на свобода е принудено да се ежи, да фучи и да мие с двете лапи пострадалата си муцунка и още дълго след това враждебно да гледа природата и живота, и дори оня пай от господарския обед, запазен специално за него от състрадателната икономка.
— Слушайте — прекъсна ме Настенка, която през всичкото време ме слушаше учудено, с отворени очи и устица, — слушайте: аз просто не зная защо е станало всичко това и защо тъкмо вие ми предлагате такива смешни въпроси; но в едно съм сигурна, че всички тия приключения от начало до край са се случили непременно с вас.
— Без съмнение — отвърнах аз с най-сериозна физиономия.
— Е, щом е без съмнение, тогава продължавайте — отвърна Настенка, — защото много ми се ще да зная как ще свърши всичко това.
— Вие искате да знаете, Настенка, какво е вършил в своя кът нашият герой или по-точно аз, защото героят на цялата история съм аз, моята скромна особа; искате да знаете защо така се изплаших, защо загубих ума и дума през целия ден от неочакваното посещение на моя приятел? Искате да знаете защо толкова се стреснах, защо така се изчервих, когато се отвори вратата на стаята ми, защо не съумях да приема госта си и така позорно загинах под тежестта на собственото си гостоприемство?
— Ами да, да! — отвърна Настенка. — Точно така! Слушайте: вие разказвате прекрасно, но не може ли да разказвате някак не толкова прекрасно? Защото говорите, сякаш четете книга.
— Настенка! — отвърнах аз с важен и строг глас, като едва се сдържах да не се разсмея. — Мила Настенка, аз зная, че разказвам прекрасно, но — признавам, другояче не умея да разказвам. Сега, мила Настенка, сега аз приличам на духа на цар Соломон, който бил затворен хиляда години в делва, под седем печата, и от когото най-сетне свалили всички тези седем печата. Сега, мила Настенка, когато ние отново се срещнахме след такава дълга раздяла — защото аз вече отдавна ви познавам, Настенка, защото аз вече отдавна търсех някого, а това е знак, че съм търсил тъкмо вас и че ни е било съдено сега да се срещнем, — сега в моята глава са се отворили хиляди клапи и аз трябва да излея река от думи, инак ще се задуша. И така, моля ви да не ме прекъсвате, Настенка, а да слушате покорно и послушно; инак — ще млъкна.
— Не-не-не! В никакъв случай! Говорете! Вече нима да пророня нито дума.
— Продължавам: има скъпа моя Настенка, в моя ден един час, който аз извънредно обичам. Това е часът, когато свършват почти всички работи, длъжности и задължения и всички бързат към дома си да обядват, да си полегнат и още тук, по пътя, измислят и други весели неща за вечерта, за през нощта и за цялото останало свободно време. В тоя час и нашият герой — защото позволете ми, Настенка, да разказвам в трето лице, тъй като в първо лице е ужасно срамно да се разказва всичко това, — и така в тоя час и нашият герой, който също не е бил без работа, крачи след другите. Но странно чувство на удоволствие осветява бледото му, някак малко посърнало лице. Неравнодушно гледа той вечерните зари, които гаснат бавно на хладното петербургско небе. Като казвам гледа, аз греша: той не гледа, а съзерцава някак несъзнателно, като уморен или зает в същото време с нещо друго, много по-интересно, така че само бегло, почти неволно може да отдели време за всичко, което го заобикаля. Той е доволен, защото до утре е свършил с отегчителните за него работи, и се радва като ученик, когото са пуснали от клас за любими игри и лудории. Погледнете го отстрани, Настенка: вие веднага ще видите, че радостното чувство вече е подействувало щастливо на слабите му нерви и болезнено раздразнената му фантазия. Ето той се е замислил за нещо… мислите, че за обеда, за днешната вечер? Какво гледа той така? Дали този господин със солидна външност, който така красиво се поклони на дамата, профучала покрай него в блестяща карета с бързоноги коне? Не, Настенка, какво го интересуват сега такива дреболии! Той сега е вече богат със свой особен живот; той някак изведнъж е станал богат и прощалният лъч на гаснещото слънце ненапразно е блеснал така весело пред него и събудил в стопленото му сърце цял рояк впечатления. Сега той едва забелязва оня път, по който преди и най-незначителната дреболия можеше да го учуди. Сега „богинята на фантазията“ (ако сте чели Жуковски, мила Настенка) вече е затъкала с капризна ръка златната си основа и е почнала да развива пред него плетениците на небивал, чудноват живот — и, кой знае, може би с капризната си ръка го е пренесла от чудесния гранитен тротоар, по който той си отива вкъщи, на седмото кристално небе. Опитайте се да го спрете сега и внезапно го попитайте: къде се намира той сега, по какви улици е минал — той навярно нищо не би си спомнил — нито откъде е минал, нито къде е сега, и изчервявайки се от яд, непременно би излъгал нещо, за да спаси приличието. Ето защо той така трепва, едва не се развиква и уплашено се оглежда наоколо, когато една твърде почтена старица учтиво го спира насред тротоара и почва да го пита за пътя, който е загубила. Начумерен от яд, той крачи по-нататък и едва забелязва, че като го гледат, някои минувачи се усмихват и се обръщат след него, и че едно малко момиченце, което боязливо му стори път, високо се засмя, като проследи с ококорени очи широката съзерцателна усмивка и жестове, които правеше с ръце. Но все същата фантазия издига в своя игрив полет и старицата, и любопитните минувачи, и смеещото се момиченце, и селяните, които вечерят тук на лодките си, задръстили Фонтанка (да речем, че по това време нашият герой минава по нея), затъкава палаво като муха в паяжина всички и всичко в своята канава и с новата придобивка чудакът влиза вече в приятната си бърлога, сяда вече да обядва, отдавна се е наобядвал вече и се опомня едва когато замислената и вечно печална Матрьона, която му прислужва, е прибрала вече всичко от масата и му подава лулата; опомня се и се чуди, че вече се е наобядвал, без обаче да забележи как е станало това. В стаята е тъмно; в душата му е пусто и тъжно; цялото царство на мечтите се е рушило около него, рушило се е без следа, без шум и трясък, отлетяло е като сън, а той сам не помни какво е сънувал. Но някакво неясно чувство, от което леко тръпнат, и се вълнуват гърдите му, някакво ново желание съблазнително гъделичка и дразни неговата фантазия и незабелязано събира цял рояк нови призраци. В малката стая цари тишина; уединение и леност галят въображението; то се възпламенява леко, леко закипява, като водата в кафеничето на старата Матрьона, която спокойно шета тук, в кухнята, като вари своето кафенце. Ето въображението вече леко клокочи, ето вече и книгата, взета без цел и наслука, пада от ръцете на моя мечтател, прочетена едва до трета страница. Въображението отново е настроено, възбудено и изведнъж пак нов свят, нов, очарователен живот блясва пред него в своята блестяща перспектива. Нов сън — ново щастие! Нова доза фина, сладострастна отрова! О, какво го интересува нашият действителен живот! Според неговия подкупен поглед ние с вас, Настенка, живеем така лениво, бавно, вяло; според него ние всички сме така недоволни от нашата съдба, така се измъчваме от нашия живот! Пък и право е, погледнете наистина как на пръв поглед всичко помежду ни е студено, мрачно, някак сърдито… „Горките!“ — мисли моят мечтател. Пък и не е чудно, че мисли така! Погледнете тия вълшебни призраци, които така очарователно, така капризно, така безбрежно и волно се редят пред него в такава вълшебна, жива картина, дето на пръв план, главно лице, разбира се, е сам той, нашият мечтател със скъпата си особа. Погледнете какви разнообразни приключения, какъв безкраен рояк възторжени блянове. Ще попитате може би за какво мечтае? Трябва ли да се пита! Ами че за всичко… за ролята на поета, отначало непризнат, а след това увенчан със слава; за дружба с Хофман; Вартоломеевата нощ, Диана Вернон, героична роля при превземането на Казан от Иван Василевич, Клара Мовбрай, Евфия Денс, събора на прелатите и Хус пред тях, възкресението на мъртъвците в Роберт (помните ли музиката, мирише на гробище!), Мина и Бренда, сражението при Березина, четенето на поема у графиня В. Д., Дантон, Клеопатра ei suoi amanti[1], къщица в Коломна, свое кътче, а до теб — милото създание, което ви слуша през зимна вечер с отворена устица и очички, както вие ме слушате сега, мое малко ангелче… Не, Настенка, какво го интересува, какво го интересува него, сладострастния ленивец, тоя живот, който ние с вас така много желаем? Той си мисли, че това е беден, жалък живот, без да подозира, че и за него ще удари може би някога тъжният час, когато ще отдаде всичките си фантастични години за един миг от тоя жалък живот и при това не за радост, нито за щастие ще го отдаде и не ще поиска да избира в тоя час на тъга, разкаяние и неканена мъка. Но докато още не е настъпило то, това страшно време — той нищо не желае, защото стои над желанията, защото има всичко, защото е преситен, защото сам е художник на своя живот и го твори всеки час по нова прищявка. А така лесно, така естествено се създава тоя приказен, фантастичен свят! Като че всичко това всъщност не е призрак! Наистина понякога е готов да вярва, че целият тоя живот не е възбуда на чувствата, не е мираж, не е измама на въображението, а че това всъщност е нещо действително, истинско, съществуващо! А защо, кажете, Настенка, защо в такива минути духът се смущава? Защо от някакво вълшебство, по някаква незнайна прищявка пулсът се ускорява, бликват сълзи на очите на мечтателя, горят неговите бледи, овлажнени бузи и такава непреодолима радост изпълва цялото му същество? Защо цели безсънни нощи минават като един миг в неизчерпаемо веселие и щастие и когато през прозореца зората блесне с розов лъч и освети мрачната стая със своята съмнителна фантастична светлина, както става у нас, в Петербург, нашият мечтател, морен, измъчен, се хвърля на леглото и заспива цял във възторжени тръпки от своя болезнено потресен дух и с такава мъчително-сладка болка в сърцето? Да, Настенка, ще се измамиш и неволно, без да искаш, ще повярваш, че същинска, истинска страст вълнува душата му, неволно ще повярваш, че има нещо живо, осезаемо в неговите безплътни блянове! А виж каква измама — ето например любовта с цялата неизчерпаема радост, с всичките си томителни мъки е слязла в гърдите му… Погледнете го само и ще се убедите! Вярвате ли, като го гледате, мила Настенка, че наистина той никога не е познавал оная, която много е обичал в своята екзалтирана мечта? Та нима той я е виждал само в прелъстителни призраци и само му се е присънвала тая страст? Нима наистина те не са минали ръка за ръка толкова години от живота си — сами, заедно, презрели целия свят и съединили всеки своя свят, своя живот с живота на другия? Нима в късен час, час на раздяла, тя не е лежала — разплакана и страдаща на гърдите му, без да чува бурята, разиграла се под суровото небе, без да чува вятъра, който откъсвал и отнасял сълзите от черните й мигли? Нима всичко това е било мечта — и тоя парк, печален, изоставен и див, с пътечки, обрасли с мъх, самотен и мрачен, където те така често са ходили двама, надявали са се, тъгували, обичали, обичали са се един друг толкова дълго, „толкова дълго и нежно“! И тази странна, прастара къща, дето тя е живяла толкова време самотно и тъжно със стария си, навъсен мъж, вечно мълчалив и жлъчен, който ги е плашел, тях, плахите като деца, унило и боязливо крили един от друг любовта си? Как са се мъчили, как са се бояли, колко невинна и чиста била любовта им и колко (ами така е, Настенка) лоши били хората! Но боже мой, та нима не е тя, която той е срещнал после, далеч от бреговете на своята родина, под чуждо небе, южно и жарко в дивния вечен град, сред блясъка на бала, сред гърмящата музика, в палат (непременно в палат), потънал в море от светлини, на тоя балкон, обвит в мирти и рози, дето тя, щом го позна, така бързо свали маската си и пошепна: „Аз съм свободна“, затрепери, хвърли се в прегръдките му и извиквайки от възторг, и притиснати един до друг, те в един миг забравиха и тъгата, и раздялата, и всички мъчения, и тъжния дом, и стареца, и мрачния парк в далечната родина, и пейката, на която с последна, страстна целувка тя се беше отскубнала от изтръпналите му в отчаяна мъка прегръдки… О, съгласете се, Настенка, че ще трепнеш, ще се смутиш и изчервиш като ученик, току-що пъхнал в джоба си открадната от съседната градина ябълка, когато някакъв дълъг, силен момък, веселяк и смешник, ваш незван приятел, отвори вратата ви и викне, сякаш нищо не е било: „А аз, братко, в момента се връщам от Павловск!“ Боже мой! Старият граф е умрял, настава неизказано щастие — пристигат хора от Павловск!
Свършил с патетичните си възгласи, аз патетично замълчах. Помня, че ужасно ми се искаше някак пряко сила да се разсмея, защото чувствувах вече, че в мен се е събудило някакво враждебно дяволче, че почвах вече да се задушавам, да потреперва брадичката ми и че все повече и повече очите ми овлажняваха… Очаквах, че Настенка, която ме слушаше, отворила широко умните си очички, ще се закиска с целия си детски, неудържимо весел смях и вече се разкайвах, че съм отишъл много далеч, че напразно разказах онова, което отдавна вече бе накипяло в сърцето ми и за което можех да говоря като по книга, защото отдавна вече бях приготвил присъдата над самия себе си и сега не се сдържах да не я прочета, нека си призная, без да очаквам, че ще ме разберат; но за мое учудване тя помълча, след малко леко стисна ръката ми и с някакво плахо съчувствие попита:
— Нима наистина така сте прекарали целия си живот?
— Целия си живот, Настенка — отвърнах аз, — целия си живот и, струва ми се, така и ще свърша!
— Не, това не бива — каза тя неспокойно, — това няма да стане; май че и аз така ще прекарам целия си живот край баба. Слушайте, знаете ли, че съвсем не е хубаво да се живее така?
— Зная, Настенка, зная! — извиках аз, без да сдържам повече чувството си. — И зная повече от всеки друг път, че напразно съм загубил всичките си най-хубави години! Сега зная това и чувствувам по-голяма болка от едно такова съзнание, защото сам бог ми изпрати вас, моя добър ангел, за да ми каже това и да го докаже. Сега, когато седя до вас и говоря с вас, вече се страхувам да помисля за бъдещето, защото това бъдеще е пак самота, пак такъв задушен, ненужен живот; и за какво ще мечтая, когато вече наяве бях така щастлив край вас! О, бъдете благословена, мила девойко, задето не ме отхвърлихте от първия път, задето мога вече да кажа, че съм живял поне две вечери в своя живот!
— Ох, не, не! — извика Настенка и сълзици заблестяха на очите й. — Не, така не ще бъде вече; ние така няма да се разделим! Какво са две вечери!
— Ох, Настенка, Настенка! Знаете ли колко за дълго ме помирихте със самия мен? Знаете ли, че сега вече няма да мисля така лошо за себе си, както съм мислел в други минути? Знаете ли, че може би вече няма да тъгувам за това, че съм извършил престъпление и грях в живота си, защото такъв живот е престъпление и грях? И не мислете, че съм преувеличавал нещо пред вас, за бога, не мислете така, Настенка, защото понякога ме налягат минути на такава мъка, такава мъка… Защото в такива минути почва вече да ми се струва, че никога не съм в състояние да почна да живея истински живот; защото ми се струваше вече, че съм загубил всякакъв такт, всякакъв усет за настоящето, за действителното; защото най-сетне аз се проклинах сам; защото след моите фантастични нощи ме нападат вече минути на отрезвяване, които са ужасни! При това чуваш как около теб гърми и се върти в жизнения вихър човешката тълпа, чуваш, виждаш как живеят хората — живеят наяве, виждаш, че животът за тях не е забранен, че техният живот няма да отлети като сън, като видение, че техният живот вечно се обновява, вечно е млад и нито един час от него не прилича на друг, докато пък скръбна и до баналност еднообразна е плашливата фантазия, робиня на сянката, на идеята, робиня на първия облак, който внезапно ще забули слънцето и ще се свие от мъка истинското петербургско сърце, което така много цени своето слънце — а в мъката каква фантазия! Чувствуваш, че тя най-сетне се уморява, изтощава се във вечно напрежение тая неизтощима фантазия, защото вече възмъжаваш, изживяваш предишните си идеали: те се разбиват на прах, на отломъци; а ако няма друг живот, тогава трябва да го строиш от тия отломъци. А при това душата търси и иска нещо друго! И напразно мечтателят се рови като в пепел в старите си мечти и търси в тая пепел поне някаква искрица, за да я раздуха, да стопли с накладения отново огън изстиналото си сърце и отново да възкреси в него всичко, което преди е било така мило, което е трогвало душата, карало е кръвта да кипи, изтръгвало е сълзи от очите и така разкошно е мамело! Знаете ли, Настенка, докъде стигнах? Знаете ли, че съм принуден вече да правя помен на своите чувства, помен на това, което преди ми беше така мило, но което всъщност никога не е било — защото тоя помен се прави все за същите глупави, безплътни мечти, — и да правя това, защото и тия глупави мечти ги няма, защото няма с какво да ги изживееш! Нали и мечтите се изживяват! Знаете ли, че сега аз обичам да си припомня и да посетя в известен час ония места, където някога посвоему съм бил щастлив, обичам да изградя своето настояще в хармония с вече безвъзвратното минало и често бродя като сянка, без нужда и цел, унило и тъжно из петербургските улици и улички. Какви спомени! Спомняш си например, че ето тук точно преди една година, точно по това време, в същия час, по същия тротоар си бродил също така самотно, също така унило както сега! Спомняш си, че и тогава мечтите бяха тъжни и макар че и преди не беше по-хубаво, но все някак чувствуваш, че сякаш се е живяло по-леко и по-спокойно, че не е имало тия черни мисли, които сега неотстъпно те преследват; че не е имало тия угризения на съвестта, угризения мрачни, тежки, които нито денем, нито нощем ти дават сега покой. И се питаш: къде са твоите мечти? И клатиш глава и казваш: колко бързо отлитат годините! И пак се питаш: какво направи с годините си? Къде погреба най-хубавото си време? Живял ли си, или не? Внимавай, казваш си, внимавай как в живота става студено. Ще минат години и след тях ще настъпи мрачна самота, ще пристигне с патерица треперещата старост, а след тях — мъката и унинието. Ще побледнее твоят фантастичен свят, ще замрат, ще увехнат мечтите ти и ще окапят като пожълтелите листа от дърветата… О, Настенка, тъжно ще бъде да останеш сам, съвсем сам и дори да нямаш за какво да пожалиш — за нищо, съвсем за нищо… защото всичко, което си загубил, всичко това, всичко е било нищо, една глупава кръгла нула, било е само една мечта!
— Хайде, не ме нажалявайте повече! — рече Настенка, като избърсваше сълзичката, която се търколи край очите й. — Сега край! Сега ние ще бъдем двама; сега, каквото и да се случи с мен, ние никога вече няма да се разделим. Слушайте. Аз съм проста девойка, малко съм учила, макар че баба ми наемаше учители; но наистина аз ви разбирам, защото всичко, което ми разказахте, сама съм го преживяла, когато баба ме забоде за роклята си. Разбира се, аз не бих могла да го разкажа така хубаво, както вие го разказахте, аз не съм учила — плахо добави тя, защото все още чувствуваше някакво уважение към моята патетична реч и към моя висок стил, — но много се радвам, че напълно ми се открихте. Сега ви познавам, съвсем целия ви познавам. И знаете ли какво? Искам да ви разкажа и своята история, цялата, без да скривам нищо, а вие после ще ми дадете съвет. Вие сте много умен човек; обещавате ли да ми дадете тоя съвет?
— Ах, Настенка — отвърнах аз, — макар че никога не съм бил съветник, още по-малко умен съветник, сега виждам, че ако ние винаги живеем така, това ще бъде някак много умно и всеки ще даде на другия премного умни съвети! Е, добричката ми Настенка, какъв съвет искате? Кажете ми откровено; сега съм така весел, щастлив, смел и умен, че съм страшно находчив.
— Не, не! — прекъсна ме Настенка, като се засмя. — Нужен ми е не само умен съвет, нужен ми е сърдечен, братски съвет, като че ли през целия си живот сте ме обичали!
— Добре, Настенка, добре! — извиках аз възторжено. — Дори и двадесет години да бях ви обичал, все пак не бих ви обичал по-силно, отколкото сега!
— Дайте си ръката! — каза Настенка.
— Ето я! — отвърнах аз, като й подадох ръката си.
— И така, да почнем моята история.
Историята на Настенка
— Половината от историята ми вие вече знаете, тоест знаете, че имам стара баба…
— Ако и другата половина е така кратка като тая… — понечих да я прекъсна аз, като се засмях.
— Мълчете и слушайте. Преди всичко да се уговорим: не ме прекъсвайте, инак, току-виж, съм се объркала. Хайде, слушайте мирно.
Аз имам стара баба. Попаднах у нея още като съвсем малко момиченце, защото и майка ми, и баща ми умряха. Сигурно баба преди това е била по-богата, защото и сега си спомня за по-хубави дни. Тя ме научи френски и сетне ми нае учители. Когато станах на петнадесет години (а сега съм на седемнадесет), свършихме с учението. Ето през това време аз извърших една лудория; какво направих — няма да ви кажа; стига ви това, че провинението не беше голямо. Само че една сутрин баба ме повика при себе си и ми каза, че тъй като тя е сляпа, не ще може да ме пази, взе карфица и забоде роклята ми за своята, при това каза, че ще седим така цял живот, ако, разбира се, аз не стана по-добра. С една дума, на първо време съвсем не можех да се откъсна от нея: и работа, и четене, и учене — все край баба. Веднъж се опитах да я изхитря и уговорих Фьокла да седне на моето място. Фьокла е нашата слугиня, тя е глуха. Фьокла седна вместо мен; в това време баба беше заспала в креслото, а аз отидох наблизо, при другарката си. Е, лошо свърши. В мое отсъствие баба се събудила и попитала нещо, мислейки, че аз все още седя мирно на мястото си. Фьокла вижда, че баба пита нещо, ама не чува какво, мислила, мислила какво да прави, откопчала карфицата и хукнала да бяга…
Тук Настенка се спря и почна да се смее с глас. Аз се засмях заедно с нея. Но тя тутакси престана.
— Слушайте, не се присмивайте на баба. А аз се смея, защото е смешно… Какво да се прави, когато баба наистина е такава, само че аз все пак малко си я обичам. Е, и тогава си изпатих: веднага пак ме туриха на мястото ми и свършено, не можех да мръдна вече.
Да, забравих да ви кажа, че ние, тоест баба, имаме своя къща, тоест малка къщица, всичко три стаи, цялата дървена и такава стара като баба; а отгоре — мансарда, и ето в нея дойде да живее нов квартирант…
— Ще рече, имало е и стар квартирант? — забелязах аз мимоходом.
— Да, разбира се, имаше — отвърна Настенка — и умееше да мълчи по-добре от вас. Наистина той едва си обръщаше езика. Това беше едно старче, сухо, нямо, сляпо, куцо, така че най-сетне не можа да издържи на този свят и умря; а след това ни потрябва нов квартирант, защото без квартирант ние не можем да живеем: наемът и бабината пенсия са почти целият ни доход. Но не щеш ли, новият квартирант се случи млад човек, не тукашен, пришълец. Понеже той не се пазари, баба го пусна, а после ме пита: „Какво, Настенка, нашият квартирант млад ли е, или не?“ Не исках да излъжа. „Ами, бабо, казвам, не че е съвсем млад, но и старец не е.“ — „Е, а приятен ли е наглед?“ — пита баба.
Аз пак не искам да излъжа. „Да, казвам, приятен е наглед, бабо!“ А баба дума: „Ах, наказание, наказание! Аз, внучке, ти говоря това, за да не се заглеждаш в него. Ама времена настанаха! Глей ти, такъв дребен квартирант, пък с приятна външност: не е като едно време!“
На баба й дай едно време! И по-млада била едно време, и слънцето едно време по-силно греело, и каймакът едно време не вкисвал така скоро — все едно време! Та седя, мълча и си мисля: защо пък баба сама ме подсеща, пита ме хубав ли е, млад ли е квартирантът? Но само тъй, само си помислих и веднага почнах отново да броя бримките, да плета чорапа, а сетне и съвсем забравих.
Но една сутрин идва при нас квартирантът да попита кога ще облепим стаята му с тапети, че сме му обещали. От дума на дума баба, а тя е приказлива, казва: „Тичай, Настенка, в спалнята ми, донеси сметките.“ Аз веднага скочих, не зная защо цяла се изчервих, пък и забравих, че съм забодена; наместо да се отбода тихичко, без да види квартирантът — дръпнах се така, че повлякох бабиното кресло. Като видях, че квартирантът вече научи всичко за мен, изчервих се, замръзнах на място като вдървена, че отгоре на това и заплаках — така срамно и горчиво ми стана в тая минута, че по-добре в земята да потънех! Баба вика: „Ти защо стоиш?“ — а аз още повече плача… Квартирантът, като видя, че се засрамих от него, поклони се и тозчас си отиде!
Оттогава чуе ли се лек шум в пруста, замръзвам като мъртва. Ето, мисля си, квартирантът иде и лекичко за всеки случай отбождам карфицата. Само че все не беше той, не влизаше. Минаха две седмици; квартирантът праща Фьокла да каже, че имал много френски книги, и то все хубави, така че може да се четат; не ще ли иска баба да й почета от тях, за да не ни бъде скучно? Баба се съгласи с благодарност, само че все питаше нравствени ли са книгите, или не, защото, ако книгите са безнравствени, то ти, Настенка, в никой случай не бива да ги четеш, на лошо ще се научиш.
— Че на какво ще се науча, бабо? Какво е написано там!
— Абе — казва тя — описано е в тях как млади хора съблазняват благонравни девици, как под предлог, че искат да се оженят за тях, ги отвличат от родителския дом, как после изоставят тия нещастни девици на произвола на съдбата и те загиват по най-плачевен начин. Аз — казва баба — много такива книжки съм чела и всичко — казва — е така прекрасно описано, че седиш по цяла нощ и тихичко четеш. Та ти — казва, — Настенка, внимавай, не ги чети. Какви книги — казва — ни е пратил?
— Ами все романи на Валтер Скот, бабо.
— Романите на Валтер Скот! Добре де, ама дали няма там някакви любовни интрижки? Я погледни дали не е турил в тях някаква любовна бележчица?
— Не — казвам, — бабо, няма бележка.
— Я ти под подвързията провери; те понякога в подвързията ги пъхат, разбойниците…
— Няма, бабо, и под подвързията няма нищо.
— Е, хубаво, хубаво!
И така почнахме да четем Валтер Скот и за един месец прочетохме почти половината. После той пращаше още и още, Пушкин прати, така че аз не можех вече без книги и престанах да мисля как да се омъжа за китайския принц.
Такава беше работата, докато веднъж не ми се случи да се срещна с нашия квартирант на стълбата. Баба ме беше пратила за нещо. Той се спря, аз се изчервих, и той се изчерви; но се засмя, здрависа се, попита за здравето на баба, казва: „Какво, прочетохте ли книгите?“ Отговорих му: „Прочетох ги.“ — „А какво, — казва, най-много ви хареса?“ Аз казвам: „Ивангое“, ама на Пушкин най-много ми харесаха. Тоя път с това се свърши.
След една седмица пак го срещнах на стълбата. Тоя път не беше ме пращала баба, а аз самата трябваше да изляза за нещо. Беше три часът, а квартирантът по това време се връщаше вкъщи. „Здравейте!“ — казва. И аз на него: „Здравейте!“
— Е, какво — казва, — не ви ли е скучно да седите по цял ден с баба си?
Щом ме попита за това, аз, не зная защо, се изчервих, засрамих се и пак ми стана обидно, види се, защото чужд човек взе да разпитва за тая работа. Исках да си отида, без да отговоря, но нямах сили.
— Слушайте — казва, — вие сте добро момиче! Извинете, че ви говоря така, но уверявам ви, че повече от вашата баба ви желая доброто. Нямате ли някакви приятелки, при които бихте могли да отидете на гости?
Казвам му, че нямам никакви, че имах една, Машенка, но и тя замина за Псков.
— Слушайте — казва, — искате ли да дойдете с мен на театър?
— На театър ли? Ами баба?
— Та вие — казва — скришом от баба си…
— Не — казвам, — не искам да мамя баба. Сбогом!
— Е, сбогом — рече и нищо друго не каза. Само че следобед идва при нас; седна, дълго приказва с баба, заразпитва дали тя излиза някъде, има ли познати — и изведнъж казва: „Днес взех ложа за операта; «Севилският бръснар» дават; мои познати искаха да отидат, но сетне се отказаха, та остана един билет.“
— „Севилският бръснар“! — извика баба. — Ами същият „Бръснар“ ли е, дето го даваха едно време?
— Да — казва, — същият „Бръснар“ — и току ме погледна. И тогаз всичко разбрах, изчервих се и сърцето ми заби от очакване!
— Та как — казва баба, — как да не го зная! Че самата едно време съм играла Розина в домашния театър!
— А не желаете ли да дойдете днес? — казва квартирантът. — Инак билетът ми ще пропадне така.
— Да, май че ще дойдем — казва баба, — защо пък да не дойдем? Ами че Настенка никога не ми е била на театър.
Боже мой, каква радост! Веднага бързо се стегнахме, пременихме се и тръгнахме. На баба, макар и сляпа, все пак й се искаше да послуша музика, пък освен това тя е добра старица: повече й се искаше мен да развлече, защото сами никога не бихме се наканили. За впечатленията си от „Севилският бръснар“ няма да ви говоря, само през цялата тая вечер нашият квартирант така хубаво ме гледаше, така хубаво говореше, че аз веднага разбрах, че той сутринта е искал да ме изпита, като ми предложи да отида сама с него. Ех, каква радост! Легнах си да спя толкова горда, толкова весела, сърцето ми така туптеше, че ме втресе малко и цяла нощ бълнувах „Севилският бръснар“.
Мислех, че след това той ще ни навестява все по-често и по-често — но не излезе така. Той почти съвсем престана да идва. Случваше се да се отбие така, веднъж в месеца, и то само за да ни покани на театър. Ходихме после още два пъти. Само че аз бях съвсем недоволна от това. Виждах, че просто му е жал за мен, дето така ме е изоставила баба, и нищо повече: да седя, не ми се седи, да чета, не ми се чете, да работя, не ми се работи, понякога се смея и правя нещо напук на баба, друг път просто плача. Най-сетне отслабнах и едва не се разболях. Оперният сезон мина и квартирантът съвсем престана да ни навестява; а когато се срещахме — все на същата стълба, разбира се, — той така мълчаливо, така сериозно ще поздрави, сякаш не му се говори, и дори съвсем ще слезе чак до входа, а аз все още стоя на средата на стълбата, червена като вишня, защото цялата ми кръв почна да нахлува в главата, когато го срещах.
Ей сега идва краят. Точно преди година, през месец май, квартирантът идва при нас и казва на баба, че той съвсем си е свършил работата тук и че трябва пак да замине за една година в Москва. Щом чух това, аз побледнях и се отпуснах на стола като мъртва. Баба нищо не забеляза, а той, след като съобщи, че си заминава, поклони се и си излезе.
Какво да правя? Мислих — мислих, мъчих се — мъчих се и най-после се реших. На другия ден той трябваше да замине, а аз реших да свърша всичко вечерта, когато баба отиде да спи. Така и стана. Свързах на вързопче всичките си дрехи, необходимото бельо и с вързопа в ръце, ни жива, ни мъртва, тръгнах към мансардата на нашия квартирант. Мислех, че вървя цял час по стълбата. А когато отворих вратата му, той просто извика, като ме видя. Мислел, че съм привидение и се спусна да ми дава вода, защото едва се държах на краката си. Сърцето ми така туптеше, че главата ме заболя и разумът ми се размъти. А когато се опомних, почнах направо с това, че сложих моя вързоп на леглото му, самата седнах до него, закрих лице с ръцете си и сълзите ми рукнаха като порой. Той, изглежда, в миг разбра всичко и стоеше пред мен блед и така тъжно ме гледаше, че сърцето ми се късаше.
— Слушайте — почна той, — слушайте, Настенка, нищо не мога да направя, аз съм беден човек; засега нямам нищо, дори прилична служба; та как ще живеем, ако се оженя за вас?
Дълго говорихме, но аз накрая изпаднах в изстъпление, казах, че не мога да живея при баба, че ще избягам от нея, че не искам да ме забождат с карфица и че ако той иска, ще тръгна с него за Москва, защото не мога да живея без него. И свян, и любов, и гордост — всичко наведнъж говореше в мен и аз едва не паднах в конвулсии на леглото. Така се боях да не откаже!
Той поседя няколко минути мълчаливо, после стана, приближи се до мен и ме хвана за ръка.
— Слушайте, моя добра, моя мила Настенка! — почна той също през сълзи. — Слушайте! Кълна ви се, че ако някога бъда в състояние да се оженя, то непременно вие ще станете моето щастие; уверявам ви, сега само вие можете да бъдете моето щастие. Слушайте: аз заминавам за Москва и ще остана там точно една година. Надявам се да си уредя работите. Когато се върна и ако вие още не сте ме разлюбила, кълна ви се, ние ще бъдем щастливи. А сега ми е невъзможно, не мога, нямам право да ви обещая каквото и да било. Но, повтарям, ако след една година това не стане, то когато и да е, непременно ще стане; разбира се — ако не предпочетете някой друг, защото не мога и не смея да ви обвързвам с някаква дума.
Ето какво ми каза и на другия ден замина. Решихме заедно да не казваме на баба нито дума. Така искаше той. Е, ето сега почти свършва цялата ми история. Мина точно година. Той е пристигнал, вече е тук цели три дни и… и…
— И какво? — извиках аз, горейки от нетърпение да чуя края.
— И досега не е дошъл! — отвърна Настенка, сякаш събираше сили. — Нито помен от него…
При тия думи тя се спря, помълча малко, наведе глава и изведнъж закри лицето си с ръце и зарида така, че сърцето ми се преобърна от тия ридания.
Никак не очаквах такава развръзка.
— Настенка! — почнах аз с плах и проникновен глас. — Настенка, за бога, не плачете! Отде знаете? Може би още го няма…
— Тук е, тук е! — подхвана Настенка. — Той е тук, зная това. Ние се условихме още тогава, през оная вечер, преди заминаването му: когато вече си казахме всичко, което ви преразказах, и се условихме, ние дойдохме тук да се поразходим, точно по тая крайбрежна улица. Часът беше десет; седнахме на тая пейка; аз вече не плачех, сладко ми беше да слушам какво говореше… Той каза, че веднага след пристигането си ще дойде у нас и ако аз не се откажа от него, ще кажем всичко на баба. Сега е пристигнал, зная това, а го няма, няма го!
И тя отново се заля в сълзи.
— Боже мой! Та нима никак не може да се помогне на мъката? — извиках аз, като скочих от пейката съвсем отчаян. — Кажете, Настенка, не може ли, да речем, аз да отида при него?…
— Нима това е възможно? — каза тя и изведнъж вдигна глава.
— Не, разбира се, не! — заявих аз, като се опомних. — Ето какво: напишете му писмо.
— Не, това е невъзможно, това не бива! — отвърна тя решително, но вече с наведена глава и без да ме гледа.
— Как да не бива, защо да не бива? — продължих аз, хванал се за своята идея. — Но знаете, Настенка, какво писмо! От писмо до писмо има разлика и… Ах, Настенка, това е така! Доверете ми се, моля ви! Аз няма да ви дам лош съвет. Всичко това може да се нареди! Та вие сте направила първата крачка — защо тогава…
— Не бива, не бива! Тогава аз като че ли се натрапвам…
— Ах, добричката ми Настенка! — прекъснах я аз, без да крия усмивката си. — Не, не; вие най-сетне сте в правото си, защото той ви е обещал. Пък и по всичко виждам, че той е деликатен човек, че е постъпил добре — продължавах аз и все повече и повече се въодушевявах от логичността на собствените си доводи и убеждения. — Как е постъпил той? Свързал се е с обещание. Казал е, че за никоя друга освен за вас няма да се жени, ако само се жени; а на вас е оставил пълната свобода, ако искате, да се откажете от него… В такъв случай вие можете да направите първата крачка, вие имате право, имате предимство пред него, да речем например, ако бихте поискали да го освободите от дадената дума…
— Слушайте, вие как бихте го написали?
— Какво?
— Ами това писмо.
— Ето как бих го написал: „Милостиви господине…“
— Непременно така ли трябва — „милостиви господине“?
— Непременно! Впрочем защо пък. Мисля, че…
— После, после! По-нататък!
— „Милостиви господине! Извинете, че аз…“ Впрочем не, не са нужни никакви извинения! Тук самият факт всичко оправдава, пишете просто:
„Аз ви пиша. Простете моето нетърпение; но цяла година живях с щастливата надежда; виновна ли съм, че сега не мога да понеса нито ден съмнение? Сега, когато сте пристигнали вече, вие може би сте променили вече своите намерения. Тогава това писмо ще ви каже, че не роптая и не ви обвинявам. Не ви обвинявам за това, че нямам власт над сърцето ви; такава ми е съдбата!
Вие сте благороден човек. Вие не ще се усмихнете, не ще се ядосате на моите нетърпеливи редове. Спомнете си, че ги пише една злочеста девойка, че тя е сама, че няма нито кой да я научи, нито да я посъветва и че тя никога не е умеела сама да овладява сърцето си. Но простете ми, че в моята душа, макар и за един миг се е промъкнало съмнението. Вие не сте способен дори мислено да обидите оная, която така ви е обичала и обича.“
— Да, да! Това е точно така, както аз си мислех! — завика Настенка и радост засия в очите й. — О, вие разрешихте моите съмнения, сам бог ви прати! Благодаря, благодаря ви!
— За какво? За това, че бог ме е пратил ли? — отвърнах аз, като гледах с възторг нейното радостно личице.
— Да, макар и за това.
— Ах, Настенка! Ние сме благодарни на някои хора, макар и за това, че живеят заедно с нас. Аз ви благодаря за това, че ви срещнах, за това, че цял живот ще ви помня!
— Е, стига, стига! А сега ето какво, слушайте: тогава се условихме, че щом пристигне, той веднага ще ми съобщи, че ще ми остави писмо на едно място, у едни мои познати, добри и сърдечни хора, които нищо не знаят за това; или ако не бива да ми пише писмо, защото в едно писмо невинаги всичко може да се разкаже, то същия ден, щом пристигне, ще дойде точно в десет часа тук, където бяхме решили с него да се срещнем. За неговото пристигане вече зная; но ето вече трети ден няма нито писмо, нито той идва. Да оставям баба сутринта, не бива. Предайте утре вие сам писмото ми на ония добри хора, за които ви казах: те веднага ще го препратят; а ако има отговор, вие сам го донесете в десет часа вечерта.
— Но писмото, писмото! Нали преди това трябва да се напише писмото! Освен ако всичко това стане вдругиден.
— Писмото… — отвърна Настенка, като се обърка малко — писмото… но…
И спря. Отначало отвърна личицето си от мен, пламна като роза и изведнъж усетих в ръката си писмо, очевидно отдавна вече написано, съвсем готово и запечатано. Някакъв познат, мил, грациозен спомен премина през съзнанието ми.
— R, o-ho-s, i-si, na-na — почнах аз.
— Rosina! — запяхме и двамата, като аз едва ли не я прегръщах от възторг, а тя цяла се бе изчервила до последна степен и се смееше през сълзи, които трептяха като бисерчета на черните й мигли.
— Е, стига, стига! А сега сбогом! — каза тя бързо. — Ето ви писмото, ето и адреса къде да го отнесете. Сбогом! Довиждане! До утре!
Тя здраво стисна и двете ми ръце, кимна с глава и полетя като стреличка към тяхната уличка. Аз дълго стоях на мястото си, като я изпращах с очи.
„До утре! До утре!“ — бързо премина през съзнанието ми, когато тя се скри от моите очи.
Ночь вторая
— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.
— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!
— Знаю, знаю… но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.
— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.
— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.
— Ну, и чем же кончилось?
— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно всё снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами всё рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.
— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю!! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории…
— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.
— Совершенно без всяких историй! так, жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, — один один вполне, — понимаете, что такое один?
— Да как один? То есть вы никого никогда не видали?
— О нет, видеть-то вижу, — а все-таки я один.
— Что же, вы разве не говорите ни с кем?
— В строгом смысле, ни с кем.
— Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня да и пришпилила булавкой мое платье к своему — и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная…
— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.
— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?…
— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?
— Ну, да, да!
— В строгом смысле слова?
— В самом строгом смысле слова!
— Извольте, я — тип.
— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?
— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?
— Мечтатель? позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за китайского принца выхожу… А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.
— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте… Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?
— Наконец-то! вот рано вспомнили!
— Ах, боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо…
— Меня зовут — Настенька.
— Настенька! и только?
— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!
— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!
— То-то же! ну!
— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.
Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:
— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на всё иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.
— Фу! господи боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?
— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я некогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый, и при первом визите, — потому что второго в таком случае уже не будет и приятель другой раз не придет, — отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать и с своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностию понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во всё время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?
— Послушайте, — перебила Настенька, которая всё время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте: я совершенно не знаю, отчего всё это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.
— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.
— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.
— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела — я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?
— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.
— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого наконец сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно; иначе — я замолчу.
— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.
— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем что в первом лице всё это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на всё окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем-то задумался… Вы думаете, об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазия» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но всё та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой) заткала шаловливо всех и всё в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже всё прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон — новое счастие! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни. На его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд всё между нами холодно, угрюмо, точно сердито… «Бедные!» — думает мой мечтатель. Да и не диво, думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой Восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем… об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в «Роберте» (помните музыку? кладбищем пахнет!), Минца и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В—й-Д—й, Дантон, Клеопатра ei suoi amanti,[1] домик в Коломне, свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик… Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время, — он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним всё, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь всё это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлаженные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется всё существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят как один миг, в неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою томительно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями… Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели всё это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, «так долго и нежно»! И этот странный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж разумеется, Настенька) злы были люди! И, боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо (непременно в палаццо), потонувшем в море, огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его… О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастие, — тут люди приезжают из Павловска!
Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что всё более и более влажнели глаза мои… Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:
— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?
— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу!
— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?
— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем — опять одиночество опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!
— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!
— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски… Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящею жизнию; потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пуглива фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном напряжении, эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова всё, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется всё по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно до петербургским закоулкам и улицам. Какие всё воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но всё как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне; что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев… О, Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего… потому что всё, что потерял-то, всё это, всё было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!
— Ну, не разжалобливайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но, право, я вас понимаю, потому что всё, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что всё еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?
— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.
— Нет, нет! — перебила Настенька засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня!
— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!
— Руку вашу! — сказала Настенька.
— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.
— Итак, начнемте мою историю!
История Настеньки
— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете что у меня есть старая бабушка…
— Если другая половина так же недолга, как и эта… — перебил было я засмеявшись.
— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.
Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — всё подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я всё еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку да и пустилась бежать…
Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.
— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно… Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.
Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец…
— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.
— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что наконец ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец как нарочно был молодой человек, нездешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.
Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказанье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»
А бабушке всё бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли — всё в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.
Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; нет, чтоб тихонько отшпилить чтобы жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец всё теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще… Жилец, как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!
С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только всё был не он, не приходил. Про шло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой что у него книг много французских и что всё хороши книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только всё спрашивала нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.
— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?
— А! говорит, описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы и они погибают самым плачевным образом. Я, говорит бабушка, много таких книжек читала, и всё, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, говорит, Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, говорит, он книг прислал?
— А всё Вальтера Скотта романы, бабушка.
— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?
— Нет, говорю, бабушка, нет записки.
— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запихают, разбойники!…
— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.
— Ну то-то же!
Вот мы и начали читать Вальтер-Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина присылал, так что наконец я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.
Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «„Ивангое“ да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.
Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было за чем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» — говорит. Я ему: «Здравствуйте!»
— А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?
Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.
— Послушайте, говорит, вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?
Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.
— Послушайте, говорит, хотите со мною в театр поехать?
— В театр? как же бабушка-то?
— Да вы, говорит, тихонько от бабушки…
— Нет, говорю, я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!
— Ну, прощайте, говорит, а сам ничего не сказал.
Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; „Севильского цирюльника“ дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».
— «Севильского цирюльника»! — закричала бабушка, — да это тот самый «Цирюльник», которого в старину давали?
— Да, говорит, это тот самый «Цирюльник», — да и взглянул на меня. А я уж всё поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!
— Да как же, говорит бабушка, как не знать. Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!
— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром.
— Да, пожалуй, поедем, говорит бабушка, отчего же не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.
Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».
Я думала, что после этого он всё будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — всё на той же лестнице, разумеется, — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я всё еще стою на половине лестницы, красная как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.
Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив; что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.
Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да наконец и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что всё кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок всё, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему, дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом всё понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.
— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?
Мы долго говорили, но я наконец пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — всё разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!
Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.
— Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастие; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь ж невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется — в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.
Вот что он сказал мне и назавтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь целые три дня и, и…
— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.
— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу…
Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.
Я никак не ожидал подобной развязки.
— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет…
— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер накануне отъезда: когда уже мы сказали всё, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил… Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет!
И она снова ударилась в слезы.
— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?…
— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.
— Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватившись, — а вот что: напишите письмо.
— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.
— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и… Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дурного совета. Всё это можно устроить! Вы же начали первый шаг — отчего же теперь…
— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь…
— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, всё более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться… В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова…
— Послушайте, вы как бы написали?
— Что?
— Да это письмо.
— Я бы вот как написал: «Милостивый государь…»
— Это так непременно нужно — милостивый государь?
— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю…
— Ну, ну! дальше!
— «Милостивый государь! Извините, что я…» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт всё оправдывает, пишите просто:
«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!
Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».
— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благодарю, благодарю вас!
— За что? за то, что меня бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.
— Да, хоть за то.
— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных люде хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!
— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, та тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте, у одних моих знакомых, добрых и просты людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем что в письме не всегда всё расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.
— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо писать! Так разве послезавтра всё это будет.
— Письмо… — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо… но…
Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове!
— R,o — Ro, s,i — si, n,a — na, — начал я.
— Rosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали «а ее черных ресницах.
— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!
Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. «До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.